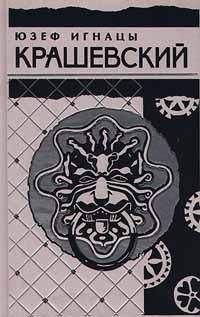Она встала и закончила тоном все возрастающего воодушевления.
– Это была воля покойного, а также и моя, и теперь это должно быть твоим предназначением…
– Ах, дорогая моя матушка, – ломая руки, отвечал юноша, – ты возлагаешь на мои плечи тяжелое бремя, хотя и не то, которое я себе сам выбрал. Но там я знал, что справлюсь, а здесь – я не в силах один снести его…
Где же силы? Где оружие? Рядом с людьми, которые вырастают в силе и влиянии, я чувствую себя маленьким и слабым. То, чего ты от меня желаешь, требует не только талантов, но и силы духа и железной воли, которой у меня мало.
– Любовь ко мне даст тебе ее, – воскликнула мать.
Теодор почти в испуге склонил голову.
– Это выше моих сил, матушка, – отвечал он. – В продолжение всех этих лет, которые я провел в Варшаве, я, хотя и находился в стенах монастыря, куда меня приняли неизвестно по чьей милости…
– Милости? – прервала мать. – Да это вовсе не была милость; видели твои способности и оценили их!
– Во время моего пребывания в нем, – продолжал Теодор, – хотя я и был вдали от света, который является ареной для честолюбивых, я все же немало разных вещей наслушался о нем, а иной раз передо мной вдруг поднимался уголок занавеси, закрывавшей сцену; я уже знаю о нем кое-что, знаю, какими способами и усилиями люди добиваются власти и значения… Теми путями, которыми взбираются в гору, ты сама не позволила бы идти своему сыну. Величие это покупается дорогой ценой…
– Ты ошибаешься, – прервала его егермейстерша, – путь к вершине славы не один. Тот, который ты видел и который показался тебе омерзительным, ведет в гору тех, что потом скатываются с нее в бездну…
Рано или поздно презрение людей свергнет их оттуда… Но есть другой путь – путь труда и применения своих способностей, и этим можно всего добиться.
– У нас? Теперь? – возразил Теодор.
Мать, услышав этот вопрос, так вся и насторожилась.
– Дитя мое, – воскликнула она, – чего же ты там насмотрелся? Где видел зло?
– Если бы я закрыл глаза, то и тогда увидел бы его, – отвечал Теодор. – Достаточно мне было послушать моего учителя, который особенно благоволил ко мне, ксендза Конарского…
– Но именно этот твой учитель, – возразила мать, – принадлежит к числу тех, которые несут лекарство против зла.
– Но еще не могли найти его, – сказал Тодя. – Зло росло слишком долго и слишком глубокие пустило корни; люди питались им и отравились. Все стало продажным, загрязнилось и испортилось…
– Но именно там, где так много зла, и является большая потребность в исправлении его, честный человек имеет огромную цену, – сказала егермейстерша. – К сожалению, я знаю этот свет лучше тебя.
Испорченность дошла там до крайности; но уже пробуждается стремление к чему-то лучшему. Конарский рекомендовал тебя Чарторыйским – иди же, иди! Теодор молчал.
– Дорогая матушка, у нас еще будет время поговорить об этом, –проговорил он наконец, – а теперь не пойти ли тебе отдохнуть?
– Мне? Отдохнуть? – со страдальческой улыбкой отвечала она. – Иди ты, если тебе нужен отдых, а я отдохну только тогда, когда истощатся все силы и я упаду от усталости – тогда и отдохну, а теперь…
Она пожала плечами и села на лавку. Теодор задумался о том, о чем они сейчас говорили.
– Разве ты хотела бы, – сказал он, подумав, – чтобы я оставил тебя здесь одну со всеми заботами и хлопотами бедного маленького хозяйства?
– А что же иное я могу делать? – спросила егермейстерша.
– Но уж, наверное, не это, – сказа Теодор. – Покойный отец не позволял тебе заниматься этим; и я не позволю…
– Я – твоя мать, – сказала Беата. – У меня есть своя воля, и я не позволю тебе противиться ей. И притом должна тебе сказать, что из великой любви ко мне ты рассуждаешь неправильно. Это жалкое хозяйство оторвет меня от моего горя, направит мысли мои на другое, утомит меня, и это уже будет для меня благодеянием.
Я не позволю тебе закопать себя в деревне, в этом убогом Борке.
Теодор подумал немного.
– Ну, так послушай же и ты меня, – сказал он, – может быть, и я не всегда рассуждаю неправильно. Может быть, нам удастся согласовать твои требования с моими опасениями за тебя…
– Каким же образом?
– Послушай, – сказал Теодор. – Отец имел что-то против гетмана…
Он взглянул на мать, которая сжала губы, и лицо ее приняло суровое выражение.
– Гетман сохранил расположение к отцу. И, наверное, охотно возьмет меня к себе на службу. Из Белостока я смогу хоть каждый день приезжать к моей дорогой матушке и таким образом, работая для будущего, буду заботиться и о тебе.
Пока он говорил это, нахмурившееся лицо Беаты так меняло выражение, что он встревожился и умолк.
Видно было, что Беата боролась с собою; всячески сдерживала готовый вспыхнуть гнев или какое-то другое чувство.
Теодор, не давая ей заговорить, прибавил:
– Все хвалят гетмана, говорят, что это магнат из магнатов, щедрый, благородный, добрый…
– Да! Да! – с горечью возразила егермейстерша. – Добрый, щедрый, благородный, бывают минуты, когда он увлекает людей, искусно обманывая их несбыточными надеждами – и пользуется их доверием.
Но на все эти его добрые качества и на его великодушное сердце совершенно нельзя рассчитывать.
Это комедиант большого света; я даже не знаю, чувствует ли он сам, когда он играет, и когда бывает самим собой; никто теперь не разгадает этой загадки. Он умеет быть великодушным и беспощадно жестоким, искренним и лживым; ни одна минута его жизни не имеет связи с другою, в ней нет никакого порядка, а совесть его не знает угрызений. Он пресыщен и утомлен жизнью, все ему надоело; переходя от добра ко злу, он стал существом, которым, как игрушкой, забавляются те, которые ему же отвешивают поклоны…
В моих глазах он хуже последнего из людей; тот, по крайней мере, не носит личины, и от него можно убежать, как от ядовитого растения; он же не умеет быть ни злым, ни добрым – и достоин только презрения, – закончила егермейстерша.
Теодор, пораженный этими словами, и, как бы не желая верить им, воскликнул:
– Матушка, неужели гетман таков?
– Да, все это так, – отвечала Беата, – другие пусть кланяются, угождают ему, но я не хочу, чтобы у тебя было ложное представление о нем. Таким я знаю его, и потому я не допущу, чтобы ты вдохнул в себя при его дворе эту атмосферу лжи и обмана – испортился и погиб. Сын обязан продолжать дело отца и принять его заветы. Если отец, как ты сам говоришь, имел что-то против него, ты должен считаться с этим без рассуждений; он избегал гетманского двора, ты должен следовать его примеру.
Теодор не сумел ответить на это, он только чувствовал, что мать была права; егермейстерша взглянула на сына и продолжала более спокойным тоном: – Возможно, что гетман, исполненный тщеславия и не терпящий, чтобы кто-нибудь держался от него в стороне, захочет при посредстве своих доверенных придти к нам на помощь и навязать нам какое-нибудь благодеяние – мы не можем принять его! Ни я, ни ты.
Она кинула быстрый взгляд на сына, словно желая прочитать в его душе; но не нашла в ней ничего, кроме слепого послушания.
Теодор молчал, решив уступить ей во всем, а мать села подле него, подперев руками голову.
Прошло довольно много времени, прежде чем Теодор заговорил.
– Не могу ли я узнать, в чем же провинился гетман перед вами с отцом? Отец никогда не хотел говорить со мною об этом. Пока я был ребенком, и пока он был жив, я мог оставаться в неведении, но теперь…
На лице егермейстерши отразилось сильное волнение, но она овладела собой и сказала:
– Отец унес эту тайну с собой в могилу и, если он так поступил, значит, у него были свои основания, которых мы не должны доискиваться! Не спрашивай меня! С твоей стороны будет гораздо большей заслугой, если ты будешь слепо доверять и повиноваться мне.
И, говоря это, она охватила руками его голову и со слезами начала целовать его.
– Дитя мое милое, – сказала она, – будущее в твоих руках – оставь нам прошлое; два бремени лягут на твои плечи, и я не знаю, которое из них тяжелее: останься там, где ты был, и будь мне послушен!
Теодор, взяв ее руки, прижался к ним губами и замолчал.
Разговор этот занял большую часть ночи. Наконец силы женщины истощились, она позволила проводить себя в дом, и там, упав на кушетку, погрузилась в состояние полубодрствования, полусна; тело жаждало отдыха, но нервное возбуждение и душевное страдание отгоняли сон. Сын и служанка не оставляли ее до утра. Бесконечно долго тянулась весенняя ночь; но настало утро, а с ним – успокоение и сон.
Теодор не смел послать за доктором Клементом, но надеялся, что он сдержит свое обещание и приедет сам. Однако, только после полудня, уже ближе к вечеру, послышался стук знакомой каретки, подъезжавшей к самому крыльцу усадьбы.
Егермейстерша должна была лечь в постель, и юноша один вышел к доктору. Внимательный Клемент, узнав о состоянии здоровья Беаты, тотчас же поспешил к ней. Тут ему нечего было делать – опасности никакой не было, а утомление, упадок сил и печаль лучше всего излечиваются временем.