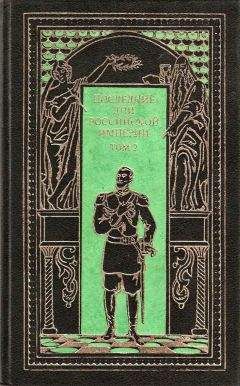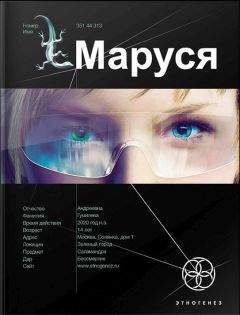Это были первые боевые трофеи полка.
Миронов задумчиво гладил рукою по белому меху австрийского ментика и говорил:
— Ишь ты, густая какая шерсть. Её, поди, и не перерубишь.
— Ку-у-ды ж! — деловито, сознавая себя героем дня, сказал Лиховидов, — мы так одного-то кинулись рубить, как по пустому месту. Шашка даже отскакивает.
— Ты-то, поди, перерубишь! — снисходительно оглядывая маленькую тощую фигурку Лиховидова, сказал Кардаильсков. — Где тебе! Поди, и шашку в руке не удержишь.
— А вы, Лиховидов, хотя одного взяли? — спросил его же сотни урядник, ординарец Апостолов.
— Дык как же! — гордо воскликнул Лиховидов, — я стрелил одного. Так с коня и загремел. Враз упал. Голова простреленная оказалась.
— А это кто по голове рубил так важно? — спросил Миронов, бросая мех и разглядывая разрубленное австрийское шако.
— Это? Это сам Максим Максимыч, хорунжий. Они и привезть наказывали командиру. Скажи, мол, что я, хорунжий Протопопов, убил.
— Постойте, ребятежь, — сказал Лукьянов, — что зря ребят расспрашиваете, пусть толком рассказывают, как дело было.
— Много их было? — спросил Миронов.
— Говорю, 24 человека. 14 положили на месте, а 10 ушло.
— А наших?
— Двенадцать, офицер, значит, тринадцатый.
— И четырнадцать положили? — с сомнением в голосе сказал Кардаильсков.
— Верно, положили, — подтвердил басом молчавший до сих пор Архипов.
— А лошадей две привели. Где же остальные? — спросил Миронов.
— Убегли. Их разве поймаешь? Они сытые, а наши приморённые, всю ночь болтались по лесу. Одну хорунжий себе взяли.
— Ну, рассказывай толком, как было? — сказал Лукьянов.
— Как было-то? Да вот как. Значит, вышли мы в разъезд вчера, ещё в 6 часов утра. Как приказ о войне получили. Ну, переехали, значит, границу. Максим Максимыч разъезд остановил, приказал столб пограничный снять: теперь, говорит, граница земли нашей лежит на арчаке нашего седла, где мы, там и граница.
— Правильно сказано, — сказал Кардаильсков.
— Дальше-то что? — сказал Лукьянов.
— Дальше?.. Идём. Чудно так, прямо полями. Поля топчем. Картофь попался, по картофю прошли, так и шелестит. Значит, война, топтать можно. Неприятельское. Да самого Белжеца мало не дошли, повернули, пошли вдоль границы. В лесу остановились, передохнули, по концерту съели. Жителей нигде никого, и спросить некого. Даже не то что человека — собаки, кошки нигде нету. Пусто. Ночь шли лесом.
— Жутко? — спросил Кардаильсков.
— Ничего, — со вздохом сказал Лиховидов.
— Не перебивайте его, ребята, — сказал Лукьянов.
— Светать стало. Только дозор нам с опушки леса рукой машет, да так показывает, чтобы мы потихоньку шли, не шумели. Подходим. Вот так, значит, об эту опушку мы идём без дороги, а о ту опушку углом, значит, по дороге они идут. Дозоры прошли. Нас не видали. Впереди офицер, серебро сверкает, синяя шубка наопашь висит, мех хороший такой, сзади они, по четыре в ряд. 24 мы насчитали, шесть шеренок, сзади никого не видать. Солнце всходить уже стало. Сабли на солнце сверкают, бренчат. Лошади фыркают, видно, недавно из дома вышли, сытые, не приморённые. Идут рысью. Ну, урядник Быкадоров и говорит его благородию: «Ваше благородие, вдарим на них, пока они не заметили нас». Максим Максимыч головой кивнул и знаком показал — шашки вынуть. Пики мы повалили. Урядник Быкадоров у меня пику взял и айда! Крикнули мы: ура! И на них. Они остановились, офицер их крикнуть что собрался или что, а тут ему Быкадоров пикой под самое горло, тот так и полетел, гляжу, вместо лица чёрная дыра. А красивый был… Да… ну, австриец сейчас утекать. Мы за ним. Только видим, что его лошади хотя и сытые, но только слабее наших. Нагонять стали. Антонов рубить стал, а они, чудные, не рубят нас, а только защиту делают. Антонов ударил по шубе и ничего, тот только нагнулся, Антонов и кричит нам: «Руби по голове». Тут Максим Максимыч своего рыжего выпустили и хватили австрийца по затылку. Так мозги и брызнули. Враз упал. Я догнать своего не могу, уходить стал. Я винтовку снял и ему в голову — раз! Гляжу, падает, нога в стрёме застряла, коня тормозит, ну, я коня схватил — вот он, мой конь! Осмотрелся, — вижу, уже кончено всё. Десять, что порезвее кони были, уходят, на шоссе вышли, так припустили, четырнадцать лежат. Кони за теми скачут, домой, значит, к своим. Она хоть и животная, лошадь, а тоже понимает, к нам не идёт. Трёх поймали. Максим Максимыч себе одну взяли. Славная кобылица такая, ростом повыше этих. Вот оно и всё дело.
— А наши пострадали?
— Ничего. Агафошкину щёку царапнуло. А то — без урона.
— Хорошие лошади, — деловито сказал Миронов и погладил по крупу сытую австрийскую лошадь.
— Лиховидов, — крикнул с крыльца школы адьютант, — командир зовёт.
Маленький Лиховидов приосанился, снял с седла перерубленное шако, окровавленный ментик, винтовку и саблю и важно пошёл в школу.
Толпа стала расходиться. У всех было повышенное праздничное настроение. Война началась, и так удачно. Трофеи, победа, отсутствие своих убитых и раненых радовали и были хорошей приметой.
— Да, — говорил Кардаильсков Лукьянову, — а жидок, выходит, этот австриец и снаряжен не по-боевому. Этакая жара, а он уже в мех нарядился.
— А главное, Антон Павлович, мне предполагается так: почин дороже денег будет…
При первом же известии об объявлении войны России венгерская кавалерийская дивизия, стоявшая против русского города Владимира-Волынского, собралась и решила овладеть конною атакою городом Владимиром-Волынским, сорвать всю русскую мобилизацию и овладеть складами.
Эта дивизия состояла сплошь из венгерских магнатов, людей лучших венгерских фамилий. Она сидела на прекрасных кровных гнедых и вороных конях, была одета в блестящую, шитую серебром форму. Её разъезды и соглядатаи донесли начальнику дивизии, что расположенная во Владимире-Волынском русская кавалерия ушла, что в городе остался только Лейб-Бородинский пехотный полк, который занят мобилизацией. Весь город переполнен запасными солдатами, телегами и лошадьми, поставляемыми по военно-конской повинности. Впереди города накопаны окопы, занятые небольшими пехотными заставами.
Венгерцы решили или умереть, или прославить в истории своё имя. Начальник дивизии, родовитый граф Мункачи, был мужчина пятидесяти пяти лет, низкий, кряжистый, крепкий, с красным лицом, с большими седыми, развевающимися усами, уходящими в длинные подуски. С ним служило в этой дивизии пять его сыновей, молодцев один лучше другого. Четверо были женаты, пятый был шестнадцатилетний юноша и состоял ординарцем при своём отце. Это был любимец графа.
Ранним утром 30 июля дивизия на рысях, в стройном порядке перешла русскую границу, смяв посты пограничной стражи, и быстро стала приближаться к Владимиру-Волынскому. Она шла густыми Волынскими лесами. Венгерцы оделись, как на парад. На них были тёмно-синие шако, тёмно-синие расшитые шнурами венгерки и такие же ментики наопашь на левом плече. Прекрасные кони были круто собраны на мундштуках. Это была красота старого конного строя, гармония изящных всадников, грациозных лошадей и блестящей одежды. Подойдя к городу, дивизия остановилась. Из-за её рядов выкатили подводы маркитантов, и янтарное венгерское заиграло в кубках. Пили за здравие короля и императора, за славу венгерской конницы, за прекрасных дам.
А в это время стройными серыми рядами, блестя круто подобранными штыками и отбивая тяжёлый шаг по шоссе, молчаливая и серьёзная, извещённая своими заставами, вливалась русская пехота в окопы, клали винтовки на брустверы, едва возвышающиеся над землёю, опиралась локтями на края, устраивая поудобнее локти для стрельбы. Офицеры обходили по окопам и спокойно говорили:
— Без приказа не сметь стрелять, хотя бы тебя рубить стали. Целить, куда укажу, либо в грудь, либо под мишень. Стрелять, не торопясь. Помни, как учили! Затаи дыхание, всю свою мысль собери на выстреле и целься внимательно. Лучше один выстрел попади, чем десять патронов зря просадить.
За спиною этой прекрасной пехоты спокойно шла в Владимире-Волынском работа и, хотя стоустая молва во много раз преувеличивала силы венгерской кавалерии, никто не считал возможным, что венгерцы могут овладеть городом и выбить из окопов российскую пехоту.
Было около 10 часов утра, когда венгерская кавалерия построилась поэшелонно. Граф Мункачи, старший сын начальника дивизии, командир первого полка, на холёном широком арабе, в сопровождении своего адьютанта и двух трубачей, в блестящем, залитом серебром мундире объезжал ряды полка и говорил слова ободрения: