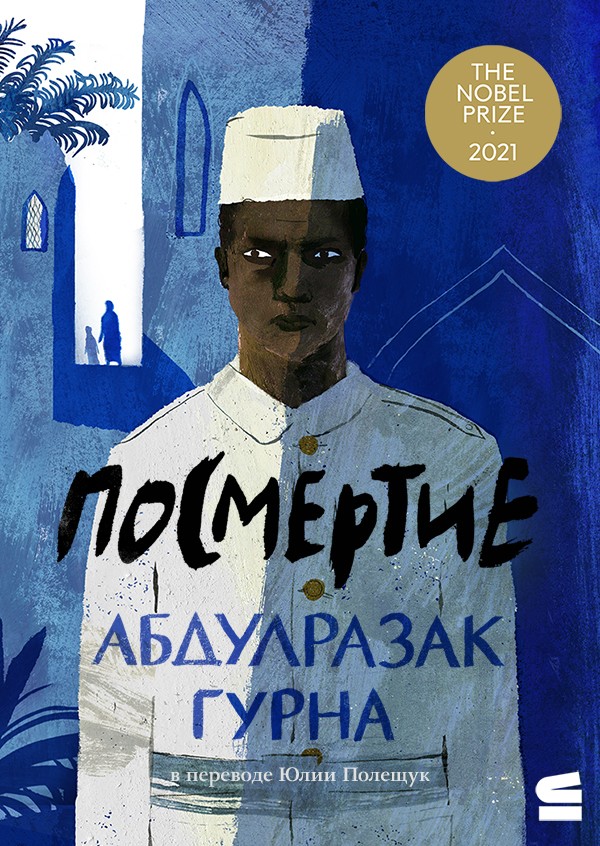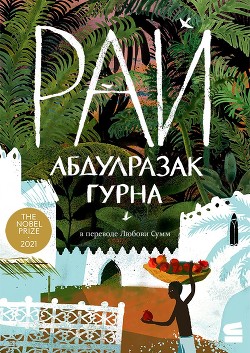Джамиля и Саада, Афия сразу сдружилась с ними. Потом возвращался домой их отец, и Афия ела с ними. Ей велели называть их отца «дядя Омари», и Афие казалось, будто они родня. Днем ее брат возвращался с работы, умывался, она приносила ему сверху обед и сидела с ним, пока он ел.
— Ты должна выучиться читать и писать, — сказал брат.
Афия никогда не видела, как читают и пишут, хотя и знала, как выглядят слова: видела их на коробках и жестянках в деревенской лавке, а на полке над табуретом лавочника видела книгу. Лавочник сказал ей, что книга священная и к ней нельзя прикасаться, не совершив омовения, как перед молитвой. Афия сомневалась, что научится читать такую священную книгу, но брат посмеялся над ней, усадил рядом с собою, принялся писать буквы и велел повторять за ним. Потом она писала буквы самостоятельно.
Однажды днем — хозяев не было дома — брат взял ее с собой в гости к другу. Друга звали Халифа, Ильяс сказал, это его лучший друг в городе. Они подтрунивали друг над другом, смеялись, чуть погодя брат сказал, им пора идти, но пообещал когда-нибудь снова взять Афию с собой в гости. Чаще всего по утрам она уходила наверх, сидела с Джамилей и Саадой, пока те готовили, болтали, шили, порой по вечерам Ильяс уходил в кафе или к друзьям, она поднималась к сестрам, писала и читала под их восхищенными взглядами. Ни они, ни их мать читать не умели.
По вечерам Ильяс не всегда уходил из дома, порой оставался с Афией, учил ее играть в карты или петь, рассказывал о своей жизни. Вот что он говорил:
— Я убежал из дома, когда мама носила тебя. Я сам не думал, что убегу. Мне было всего одиннадцать. Мама с папой были очень бедны. Все были бедны. Не знаю, как они существовали, как выживали. У папы был сахар, ему нездоровилось, работать он не мог. Может, им помогали соседи. Я ходил вечно голодный и в лохмотьях. Две мои младшие сестры умерли вскоре после рождения. Думаю, от малярии, но я сам тогда был ребенком и ничего не смыслил в таких вещах. Помню, как они умирали. Им было всего несколько месяцев, когда они заболели, несколько дней плакали, кричали, потом умерли. Порой ночью я не мог заснуть от голода и от папиных громких стонов. Ноги его распухли и воняли тухлым мясом. Он не виноват, это все сахар. Не реви, я вижу, у тебя глаза на мокром месте. Я говорю это все не чтобы тебя расстроить, а чтобы объяснить, что убежал из дома не без причины.
Я сам не ожидал, что убегу, но однажды пошел гулять и не вернулся. На меня никто не обращал внимания. Когда мне хотелось есть, я выпрашивал пищу или воровал фрукты, а по ночам укрывался где-нибудь и спал. Иногда мне бывало очень страшно, но порой я забывал о себе и просто-напросто наблюдал за тем, что творится вокруг. Через несколько дней я пришел в большой город у моря, в этот город. По улицам маршировали солдаты, играла музыка, грохотали сапоги, рядом с солдатами маршировали мальчишки, словно они тоже солдаты. Я увязался за ними, зачарованный военной формой, музыкой, маршем. Он окончился на вокзале; я глазел на железные вагоны, каждый величиною с дом. Паровоз ревел, пыхал паром, как живой. Я впервые увидел поезд. На платформе стоял отряд аскари, дожидаясь посадки, я бродил вокруг них, смотрел, слушал. Тогда еще воевали с Маджи-Маджи. Ты знаешь об этом? Я тогда тоже не знал. Про Маджи-Маджи я тебе потом расскажу. Наконец поезд приготовили, и аскари стали садиться. Один из аскари, шангаан, схватил меня за руку, затащил в вагон, я вырывался, а он смеялся и не выпускал меня. Я-де буду его оруженосцем, буду во время маршей носить его ружье. Тебе понравится, сказал он. И не выпускал меня из поезда до самой конечной станции — куда уж тогда дотянули железную дорогу, — а потом мы несколько дней шагали до городка в горах.
Когда мы пришли, мне велели ждать во дворе. Наверное, шангаан решил, что я не сбегу, поэтому уже не держал меня за руку. А может, он думал, что мне некуда бежать. Я увидел индийца, он стоял у каких-то ящиков, командовал грузчиками и делал пометки на картонке. Я подбежал к нему и сказал, что этот аскари похитил меня из дома. Индиец ответил: «Пошел прочь, малолетний воришка!» Наверное, потому что я был очень грязный. Одет в лохмотья: короткие штанишки из дерюги, рваная старая рубаха, которую я даже не стирал. Я сказал индийцу, что меня звать Ильяс и что вон тот высокий шангаан-аскари, который стоит и смотрит на нас, похитил меня из дома. Индиец сперва отвернулся, а потом спросил: «Как бишь тебя?» Заставил меня дважды повторить мое имя, улыбнулся и произнес: Ильяс. Потом кивнул, взял меня за руку, — тут Ильяс взял за руку Афию, улыбнулся, как тот индиец, и поднялся на ноги, — подвел к немцу-военному в белой форме, он тоже стоял во дворе. Этот военный был командиром аскари и как раз занимался солдатами. У него были волосы цвета песка и такие же брови. Я впервые очутился так близко к немцу, и вот что я увидел. Он хмуро взглянул на меня, что-то ответил индийцу, и тот сказал, что я свободен и могу идти. Я возразил, что идти мне некуда, командир аскари услышал это, снова нахмурился и позвал другого немца.
Они сели, Афия по-прежнему улыбалась, глаза ее лучились удовольствием от рассказа. Ильяс продолжал, на-супясь:
— Этот второй немец был не военный в красивой белой форме, а гражданский сурового вида, он командовал рабочими, которые грузили ящики — те, что пересчитывал индиец. Военный ему что-то сказал, он поманил меня к себе и отрывисто спросил: «Так что с тобой случилось?» Я ответил, меня зовут Ильяс, аскари похитил меня из дома. Немец повторил мое имя и улыбнулся. Ильяс, произнес он, какое красивое имя. Постой здесь, я скоро закончу. Стоять я не стал: ходил за ним хвостом, боялся, что меня заберет аскари. Немец этот работал на кофейной плантации в горах неподалеку. Плантация принадлежала другому немцу. Первый немец привел меня с собой на плантацию, нашел мне работу в хлеву. У них были ослы и лошадь в отдельном стойле. Да, лошадь, не жеребец, очень крупная, я боялся ее. Плантация была новая, дел невпроворот. Поэтому тот суровый немец и привел меня сюда: