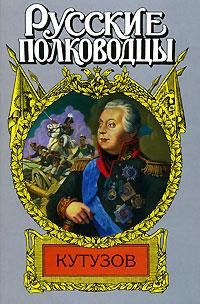Шевардинский бой убедил Кутузова, что общий левый фланг слабо укреплен. Сидя в дрожках, в полной парадной форме, он отдавал последние приказания.
– Леонтий Леонтьевич! – позвал он Беннигсена, назначенного начальником Главного штаба. – Велите направить к Утице корпус Тучкова. Ему надлежит расположиться углом к корпусу Бороздина...
Барон не понял замысла главнокомандующего. Он приказал перевести из резерва 3-й корпус, но поставил его фронтом к противнику. Тем самым Тучков был лишен возможности в ходе сражения простым фронтальным движением выйти во фланг французам. Самоуверенность и прямое непослушание Беннигсена лишили русских очень важного для исхода всего боя маневра...
Между тем Кутузов употребил все усилия, чтобы возжечь в войсках и без того высокий боевой дух.
Он объезжал полки, беседовал с солдатами, говоря с ними самым простым, близким их сердцу языком. Громкое «ура» текло от одной колонны к другой, сопровождая светлейшего князя. В расположении Симбирского пехотного полка Михаил Илларионович остановился и сказал:
– Дети! Вам придется защищать землю родную, послужить верой и правдой до последней капли крови. Каждый полк будет употреблен в дело. Вас будут сменять, как часовых, через каждые два часа.
Он испытующе оглядел серьезные, посуровевшие лица. Все в полку уже выстирали и надели чистые тельные рубахи, готовясь к близкой смерти.
– Надеюсь на вас, дети, – в звенящей, нарушаемой лишь резкими криками ласточек тишине добавил Михаил Илларионович. – Бог нам поможет! Отслужите молебен...
Кутузов отдал повеление пронести по всем полкам икону Смоленской Божьей Матери, от берегов Днепра сопровождавшую русскую армию.
Близился вечер. Солнечный диск, валившийся за покрытое кустарником взгорье на той стороне Колочи, багровел и словно наливался кровью. Оттуда, из-за леска, доносились смутные звуки рожков и временами накатывался волнами глухой гул. Кутузов, сидевший на своем смирном белом мекленбургском коне с толстыми ногами и густой гривой, понимал, что там французские войска приветствуют своего императора. Завлеченное в дальние края разноплеменное войско имело нужду в возбуждении – надо было льстить и потакать страстям. И великий честолюбец не жалел ни вина, ни громких слов, ни лести. Наполеона озабочивала только мысль, не отступит ли Кутузов без сражения. Вражеская армия ликовала, твердо веря в завтрашнюю победу. Но о той же победе в предстоящем сражении мечтал каждый русский воин, ее ожидали общество, народ, Россия...
– Несут, господа! Несут! – раздалось в свите.
Михаил Илларионович недовольно оглянулся. Голоса тотчас смолкли. Кутузов тронул коня.
По Смоленской дороге, с горки, двигалась процессия под нестройное церковное пение. «Спаси, Господи, люди твоя...» – дребезжащим, старческим альтом выводил седенький полковой священник, и хор подхватывал такие знакомые, волнующие с детских лет слова: «...и благослови достояние твое, победы над сопротивные даруя...»
Золотой венец и серебряный оклад иконы Смоленской Божьей Матери отбрасывали далеко лучи заходящего солнца, льющиеся из-за Колочи. Огромные глаза на темном лике, казалось, скорбно и строго смотрели туда, за речку и темно-зеленый кустарник, где сгущалось, накапливалось страшное воинство Наполеона.
Солдаты, которые работали на Курганной высоте, у возводимых насыпей для установки орудий, бросили лопаты и заступы и, размашисто крестясь, побежали навстречу процессии. Иные кидались ниц посреди самой дороги, чтобы святыня прошла через них и влила в них спасительную силу. Большинство же толпилось на обочине, кто как умел, подпевая хору.
Взглядом опытного инженера-артиллериста Михаил Илларионович окинул высоту. «Не успеют до начала завтрашней битвы, – подумалось ему. – Тут еще трудов на добрых двое суток. Насыпь и ров только обозначены. Вал невысок, ров покат и неглубок. Амбразуры приготовлены лишь для десяти пушек...»
Он скинул свою белую фуражку и при приближении процессии несколько своротил с дороги. Тяжело, неловко стал слезать с лошади. Паисий Кайсаров, дежурный генерал и любимец главнокомандующего, успел соскочить со своего коня и поддержать Кутузова.
– Спасибо, голубчик! Спасибо, милый... Вот кто нас всех поддержит, – сказал Михаил Илларионович, указывая на икону. Он прекрасно понимал значение происходящего. Тысячи глаз были в этот миг обращены на него, каждое его слово будет передаваться из уст в уста, скажется на духовном настрое солдат, а значит, и на завтрашнем беспощадном сражении.
Неспешно, даже торжественно, главнокомандующий приблизился к иконе. Тяжело пал на одно колено, потом встал на оба и приложился лицом к уже по-осеннему холодной земле. Он думал о грозной ответственности, которая лежала на его плечах, старческих и немощных. С помощью Кайсарова Кутузов поднялся и приложился к иконе. По серебру оклада прокатилась слеза и скрылась под жемчужными подвесками. Михаил Илларионович плакал, сокрушаясь о тех огромных жертвах, которые придется положить завтра на алтарь Отечества...
– Присягаю! – глухо произнес Кутузов. – Перед этим святым ликом присягаю, что ни шагу не отступлю с поля битвы...
Вслед за ним торжественные слова присяги произнесли генералы.
Началось молебствие. Главнокомандующий стоял, опустив большую седую голову, лишь покачивая ею и повторяя про себя слова молитвы. Ветерок, дувший от Бородина, слабо шевелил церковными хоругвями. С резким криком проносились над обнаженной головой Кутузова ласточки и зигзагами, чертя крылом небо, уходили в сторону. Но вот молебствие завершилось. Солдаты кинулись к кресту и водокроплению, с детским простодушием веруя в их целительную власть.
Михаил Илларионович медленно двинулся во главе свиты к Багратионовым флешам, где впереди деревни Семеновской грозными рядами стояли пушки. Туда же направилась процессия с иконой Божьей Матери.
Глядя на русские орудия, Кутузов невольно вспомнил Аракчеева, много лет занимавшего должность инспектора артиллерии. «Конечно, это изверг, каких мало сыщешь на свете, – сказал он себе. – А как отозвался о нем Александр Павлович в бытность свою цесаревичем?. За поклеп, возведенный на невинного офицера, покойный император исключил Аракчеева из службы, а великий князь назвал мерзавцем. Но потом, став государем, Александр сам осыпал милостями графа Алексея Андреевича, мучителя солдат и младших офицеров. И все же, правду сказать, этот злодей, этот каналья немало сделал для русской артиллерии. Есть заслуга и этого изверга, что наши пушки не уступают Наполеоновым, а молодцы-артиллеристы, верно, превосходят французских в умении...»
Михаил Илларионович подумал о том, что за время его более чем полувековой службы в военном искусстве многое переменилось. И конечно, выросла роль артиллерии.
«Завтра Бонапарту придется послушать хор русских пушек», – усмехнулся он, ласково улыбаясь подходившему с докладом Багратиону.
Князь Петр Иванович встретил смоленскую святыню в окружении нижних чинов. Любимец Суворова, боготворимый солдатами и офицерами, 47-летний воин прошел двадцать боевых походов, участвовал в ста пятидесяти сражениях, боях и стычках – и всегда со славой.
Багратион принял икону и вынес ее на самый высокий редут, словно желая сказать Наполеону: «Тебе неведома крепость русского народа. Ты не одолеешь ее никакой силой!..»
Император Франции в этот миг действительно смотрел с высоты взгорья, с захваченного у русских Шевардинского редута, в зрительную трубу, положенную на плечо Мюрата, и никак не мог понять истинной причины необыкновенного оживления среди русских. Он видел, что у Семеновских флешей что-то двигалось, блистало и искрилось. И эту светящуюся точку густо облепили московиты. Он наконец догадался, что происходит, и с превосходством просвещенного атеиста произнес:
– Дикари! Они надеются, что их спасут их идолы...
Сын трактирщика, возведенный Бонапартом в ранг маршала Франции, женатый на его сестре и коронованный королем Неаполитанским, Иоахим Мюрат не нашелся что ответить. Он только с немым восторгом поглядел на своего благодетеля.
Наполеон понял его состояние. Светло-серые глаза императора скользнули по пышному наряду Мюрата – от ярко-желтых сапог до шляпы с гигантским султаном а-ля Генрих IV. Он давно и глубоко презирал людей, с равнодушным цинизмом относился и к своим солдатам. Взяв Тулон, хладнокровно расстрелял картечью четыре тысячи пленных – преимущественно портовых рабочих. Без колебаний приказал умертвить в Египте две тысячи больных солдат, а затем бросил и всю армию (как поступил и с остатками «Великой»)...
Отведя взгляд от верного Мюрата, император усмехнулся: «Если он и похож на короля, то только на опереточного», – и велел подать себе лошадь. Когда Наполеон садился в седло, Мюрат поддерживал его стремя вместо форейтора.