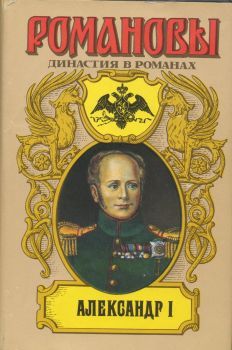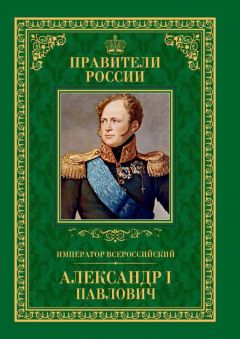– Вот пилюля, которую восемь лет ношу у ретивого; восемь лет жажду мщения. Ему не ускользнуть от меня… Тогда пользуйтесь случаем, делайте что хотите, созывайте ваш Великий Собор и дурачьтесь досыта!
Выслушали молча и заговорили тотчас о другом: где бы провести остаток ночи, в Красный ли кабачок закатиться на тройках или по соседству в Фонарный, к «дамочкам». Но говорили уже вяло, со скукою; сразу устали, опьянели и отяжелели. Веселье потухало, как бледно-голубое пламя пунша в бледно-зелёной тусклости утра.
Затянули ещё раз на прощанье, но тоже со скукою:
Отечество наше страдает
Под игом твоим, о злодей…
И опять:
Чимбиряк-чимбиряк-чимбиряшечки!
С голубыми вы глазами, мои душечки!
Один в кабинете, забившись в угол дивана и закрыв лицо руками, сидел Одоевский. Голицын подошёл к нему. Тот услышал и отнял руки от лица.
– А знаете, князь, – проговорил он, и Голицыну казалось, что слёзы у него на глазах, – ведь Пестель-то прав: стыдно, Боже мой, как стыдно и гадко всё! Ничего не будет. Болтуны несчастные: наделала синица славы, а моря не зажгла…
Голицын молча простился и вышел на улицу.
Светло, тихо, пусто. Внизу – опрокинутое в Мойке белое небо, и вверху – оно же, белое, слепое, как остекленевший глаз покойника; серая каланча над серою съезжею; у полосатой будки сонный будочник; грохочущие телеги со смрадными бочками; ругань двух пьяных гуляк у трактира с красным фонариком и гул барабана вдали, – должно быть, на гауптвахте бьют зорю.
На углу Вознесенской нагнал его Рылеев. Долго шли молча.
– Ну что, как? – начал было Голицын, но тот замахал на него руками:
– Да уж не говорите. Скверно…
И опять молча пошли по светлой, тихой и пустой, точно вымершей, улице с белым небом вверху.
Вдруг оба вздрогнули. Могучий звук прокатился одиноко в мёртвой тишине, задрожал, как задетая у самого уха струна, и медленно замер. Первый, второй, третий – и весь воздух наполнился медленно-мерными медными гулами. У Вознесения благовестили к заутрене.
Остановились, прислушались.
– Да, ничего не будет, ничего не сделаем, – заговорил Рылеев, как будто повторяя то, что говорил благовест, – а всё-таки надо начать! Раздастся глас свободы и разбудит спящих…
Говорил, как всегда, высокопарно, торжественно; но не в словах, а в лице и голосе его что-то было такое же простое, правдивое, как давеча у Пестеля.
Голицын положил ему руки на плечи и заглянул в лицо, бледное в бледной тусклости утра, точно мёртвое.
– Да, начать надо, – произнёс и он, как бы отвечая на то, о чём спрашивал колокол. – Хотя вы и не верите в Бога, а помоги вам Бог!
Обнялись и поцеловались молча.
Когда Рылеев ушёл, Голицын долго ещё слушал благовест, потом снял шляпу и перекрестился с молитвою, с которой благословила его Софья: «Сохрани, помоги, помилуй нас всех, Господи! Спаси, Матерь Пречистая!»
На следующий день у Полицейского моста на Невском встретил он Пестеля; лица не видел – шёл сзади, – но узнал тотчас же. У Пестеля под мышкой был свёрток, должно быть, персидская шаль, подарок сестре. Нагнав его, Голицын пошёл рядом; но Пестель не замечал его и продолжал идти, не глядя по сторонам. Лицо безжизненное, взор невидящий, шаг размеренный: кажется, будь на дороге яма – не остановился бы, как пущенный в ход автомат.
Солнце пекло уже по-летнему; тощие липки бульвара, едва распускавшиеся, кидали слабую тень. Пестель присел на скамейку, снял фуражку и вытер платком пот со лба; всё ещё не узнавал или не видел Голицына, присевшего рядом.
– Здравствуйте, Павел Иванович!
– Ах, Валерьян… – видимо, с трудом вспомнил он имя. – Валерьян Михайлович, извините, я очень рассеян, никого не узнаю…
Голицын заговорил о вчерашнем, но Пестель едва слушал и отвечал неохотно, как будто думал о другом, не рад был встрече и о своей вчерашней благодарности забыл.
– А нехорошо у вас в Петербурге, – вдруг среди разговора оглянулся он и поморщился. – Жара, пыль, вонь… Я, впрочем, весны не люблю. То ли дело осень, особенно в деревне, самая глухая осень в самой глухой деревне. Читали вы «Утехи меланхолии»?
– Нет, что это?
– Книжечка такая, старинная. Мне нравится. Давеча по Невскому шёл, всё вспоминал. Погодите, как это? «Счастливый уголок безмятежности, уединённое сельцо, мирное лоно твоё в шуме осенних бурь нежит скорбный дух мой; любезная пустынька питает меланхолию…» Не правда ли, чувствительно? Глупо, но чувствительно. Точно перевод с немецкого. Потому, должно быть, мне и нравится… А к памятнику Петра пройти как? – спросил он, вставая.
– Тут недалеко. Я проведу вас, если позволите.
Пошли вместе. По дороге Пестель опять вычитывал ему из «Утех меланхолии»:
– «Среди октябрьских непогод в дико-густейшей мгле, при порывистых вихрях, приветствуемый мерцанием дружественной Цинфии…» Что такое Цинфия? Из мифологии, что ли? А дальше не помню…
– Как вы и это-то запомнили? – рассмеялся Голицын.
– С матушкой читал, давно ещё, мальчиком, а потом с сестрой. Бывало, в осенние сумерки всё ходим по берёзовой аллее над озером – у нас большое озеро в парке, оттуда вид прекрасный, – жёлтые листья под ногами шуршат, и читаем Ламартина, Шатобриана или вот эту самую меланхолию.
– Вы и стихи любите?
– Нет, стихов не люблю… впрочем, не знаю, мало читал, только вот с сестрою. Одному некогда и скучно.
– А Пушкина?
– И Пушкина мало знаю.
– Вы, кажется, встречались?
– Да, в Кишинёве раз, давно. Всю ночь проговорили о политике и о бессмертии души.
– Ну и что же?
– Ничего. Как всегда, каждый при своём остался. Он доказывал, что Бога и бессмертия нет, а я ему – что этого доказать нельзя; тут всё надвое: по сердцу – Бога нет, а по разуму – есть. Mon coeur est materialiste, mais ma raison sy refuse…
– Наоборот, казалось бы? – удивился Голицын.
– Нет, у меня так, – немного нахмурился Пестель, и в глазах его появилось выражение, которое и раньше заметил Голицын, как будто перед носом любопытного гостя захлопнулась дверь во внутренние комнаты хозяина; и тотчас заговорил о другом, рассказал, как Пушкин хотел к ним в общество, да его нельзя – ненадёжен.
По новому Адмиралтейскому бульвару вышли на Сенатскую площадь, к памятнику Петра.
Пестель обошёл его, разглядывая с простодушным любопытством, потом остановился, приложил лицо к решётке и, глядя в лицо изваяния, как в лицо живого человека, долго молчал, словно забыл о собеседнике; наконец сказал по-французски шёпотом:
– А ведь тут пропасть: если конь опустит копыто, Всадник полетит к чёрту…
– Да, костей не соберёт…
– И мы с ним?
– Разве мы – с ним?
– А где же?
– Вот змея под копытами лошади – крамола, революция…
– Вы думаете? А Пушкин говорит, что с него-то, – кивнул Пестель на памятник, – с него и началась революция в России.
– И самодержавие с него же, – заметил Голицын.
– Да, крайности сходятся… Ну так как же: мы-то с ним или против него? – опять помолчав, спросил Пестель.
– Не знаю, – усмехнулся Голицын, – не знаю, как мы, Павел Иванович, а вы, наверное, с ним.
– Почему я?.. – проговорил Пестель, но уж опять рассеянно, как будто о другом думая, – дверь во внутренние комнаты захлопнулась, – и, не дожидаясь ответа, внезапно простился, кликнул извозчика и уехал.
Голицын, оставшись один, долго ещё вглядывался с тем же вопросом в лицо Медного Всадника: против него или с ним?
Ответа не было, и наконец решил: «А всё-таки надо начать – с ним или против».
Фотий в гробу полёживал с приятностью.
В доме графини Анны Алексеевны Орловой-Чесменской[198] на Дворцовой набережной, где гостил по целым месяцам, он устроил себе подземную келью. В тёмный подвал, освещаемый только огнями неугасимых лампад, вела узкая лестница; пол мраморный, чёрными и белыми шашками; иконостас, блистающий золотом и драгоценными каменьями. Он любил их: в детской простоте, не зная цены деньгам, принимал в подарок от Анны блюдо рубинов или яхонтов, как блюдо земляники. Посередине кельи – гроб. Фотий спал в нём ночью, а иногда и днём отдыхал.
Анна сперва ужасалась, а потом привыкла, и гроб стал ей казаться диваном, тем более что надоевшую чёрную обивку заменил он светлою, серебряным глазетом снаружи и белым атласом внутри, «дабы гроб светел был и приятен». Когда в одеянии подобносхимническом, нарочно сшитом по его заказу, как святые на иконах пишутся, лежал он в этом весёлом гробу, Анна любовалась на него с умилением:
– Ах, отец, отец, как он мил!
Весь день провёл Фотий в хлопотах и разъездах по делу Голицына; устал, измучился; вернувшись домой, завалился в гроб отдыхать. Выпить бы горячего укропника, – укропник пил вместо чая, зелья бесовского. Но никто, кроме Анны, не умел варить, а её дома не было, уехала с визитами.