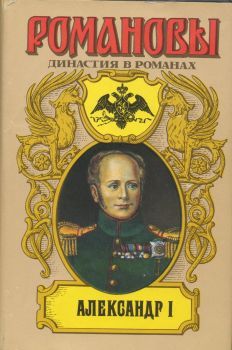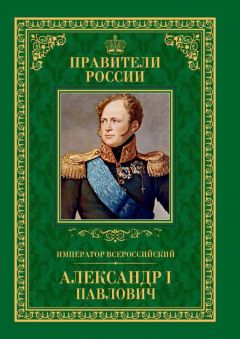Государь слушал молча, со скукою.
Доставая один из листков, Фотий распахнул рясу; хотел закрыть, но государь не дал ему, наклонился, раздвинул складки и увидел под железными веригами, на голой груди его, страшную, железом натёртую, до костей зияющую рану.
– Что дивишься, царь? – воскликнул Фотий. – Гляди, когда хочешь, и знай, что, себя не жалеючи, никого не пожалею ради Господа!
Государь отвернулся; лицо его болезненно сморщилось. Жалко было Фотия, но и себя жалко; жалко и стыдно. Вспомнил, как в первое свиданье поклонился ему в ноги, готов был видеть в нём своего избавителя, посланника Божьего. Не то одержимый, не то помешанный, – вот за кого ухватился, как утопающий. Быть смешным боялся больше всего на свете, а с Фотием был смешон; этого никому никогда не прощал, – не простил и ему.
А тот продолжал неистовствовать.
Государь встал, налил стакан воды и подал ему.
– Успокойтесь, отец, выпейте. Я зла против вас не имею: что сказал, то сказал, и больше ничего не будет. Я всегда рад вас видеть, а теперь прошу меня извинить, – дела неотложные.
И позвонил Мельникова.
То было последнее свидание государя с Фотием.
Торжество его, впрочем, как будто продолжалось. Патер Госнер по высочайшему повелению выслан был за границу, и книга его сожжена в печах кирпичного завода Александро-Невской лавры; жгли три часа, в двадцати печах, и при этом присутствовал Фотий, возглашая анафему. Аракчеев исходатайствовал ему панагию[201] «за торжество православия».
«Порадуйся, старче преподобный, – писал Фотий симоновскому архимандриту Герасиму, – нечестие пресеклось, армия богохульная диавола паде, ересей и расколов язык онемел; общества все богопротивныя, якоже ад, сокрушились. Министр наш один – Господь Иисус Христос, во славу Бога Отца, аминь. – Молись об Аракчееве: он явился, раб Божий, за св. церковь и веру, яко Георгий Победоносец».
Но этим торжество и кончилось. Внезапно, точно сговорившись, все отшатнулись от Фотия. Долго не понимал он – за что; когда же понял, что милостям царским – конец, то пал духом, заболел, едва не умер и, только что оправился, уехал из Петербурга, «бежал из града, яко из ада», в свой новгородский Юрьевский монастырь добровольным изгнанником, вместе с Анною.
Министром же духовных дел оказался не Иисус Христос, а граф Аракчеев. Все доклады по делам Св. Синода представлялись государю через него. Сразу ввёл он порядок военный в духовном ведомстве: святые отцы при нём пикнуть не смели, стали тише воды ниже травы. И пожалели о Голицыне.
В Андреевском соборе села Грузина появился в те дни новый образ – Спаситель, держащий на деснице Евангелие; образ покрыт был литою серебряною ризою; ежели открыть стеклянную раму, то можно увидеть, что один из серебряных Листов Евангелия на едва заметном шарнире отгибается, и под этим листом – другой образок: Аракчеев – в парадном генеральском мундире, со всеми орденами, сидящий на облаках, как бы грядущий со славою судить живых и мёртвых.
«Государь похож на того спартанского мальчика, который, спрятав под плащом лисицу, сидел в школе и, когда зверь грыз ему внутренности, терпел и молчал, пока не умер».
Так думал князь Александр Николаевич Голицын, когда в беседах с ним государь бывал откровенен и, казалось, вот-вот заговорит о главном, единственном, для чего, может быть, и начинал разговор, – о лисице, грызущей ему внутренности, – о тайном обществе; но вдруг умолкал, и собеседник чувствовал, что если бы он заговорил о том первый, это ему никогда не простилось бы и тридцатилетней дружбе наступил бы конец.
– Ты на меня не сердишься, Голицын?
– За что же, ваше величество? Сами знать изволите, я уж давно собирался в отставку…
– Правда, не сердишься? Ни капельки, ни чуточки? – допытывался государь с той милой улыбкой, за которую некогда Сперанский назвал его «сущим прельстителем».
– Ну, право же, ни чуточки! – невольно улыбнулся и Голицын.
Если в тайне сердца был обижен, то не отставкой, не анафемой Фотия и даже не тем, что предали его, тридцатилетнего друга, негодяю Аракчееву, а тем, что лукавят с ним и не верят ему.
– Бог лучше нашего знает, что для нас нужно; предадимся же воле Его и будем надеяться, что всё к лучшему, – произнёс Голицын тем пустым голосом, которым подобные изречения всегда произносятся.
– Да, всё к лучшему, всё к лучшему, – согласился государь с такою безнадёжностью, что Голицын, уже забыв обиду, взглянул на него, как добрая няня на больного ребёнка, – Что ты на меня так смотришь? Что думаешь?
– Позволите быть откровенным, ваше величество?
– Прошу тебя.
– Думаю, как многие, должно быть, глядя на ваше величество, думают: не стоит ли он на высоте могущества? Спаситель России, освободитель Европы, Агамемнон между царями:
Александр, о ангел мира!
Щедрый дар благих небес,
Щит царей – твоя порфира,
Меч – орудие чудес, —
как пели мы некогда, встречая Благословенного. Чего же ему ещё надобно? Что с ним? О чём он грустит?..
Беседа эта происходила в министерском доме, на Фонтанке, против Михайловского замка, в маленькой комнатке, рядом с домовою церковью Духа Святого. Единственное окно закладено было наглухо, так что ни один луч дневной не проникал сюда и ни один звук, кроме церковного пения; а когда службы не было, – тишина могильная. Над плащаницею, перед большим деревянным крестом, вместо лампады висело огромное сердце из тёмно-красного стекла, с огнём внутри, как бы истекающее кровью.
– Я и сам не знаю, что это, – продолжал государь после молчания. – Когда астрономии учила нас Бабушка, то давала смотреть на солнце сквозь стекло закопчённое. Так вот и теперь, как сквозь тёмное стекло, гляжу на всё tout a une teinte lugubre autour de moi,[202] – точно затмение. Знаешь молитву: не отверже мене от лица Твоего и Духа Твоего Святаго не отыми от мене. Кажется, молитва моя не исполнилась: Он отверг меня…
– Не говорите так, ваше величество, не искушайте Господа!
Государь взглянул на Голицына: угодливая ласковость в мягких морщинах, как у доброй няни или старой сводни; не камень, на который можно опереться, а подушка, в которую можно плакать, кричать от боли, – никто не услышит.
– Я не ропщу, Голицын, сохрани меня Боже! Мне ли забыть о милостях Его неизречённых? «Ангелам своим заповесть о тебе», – помнишь, как мы загадали и нам открылся этот псалом, когда Наполеон переступал через Неман? Исполнилось пророчество: ангелы понесли меня на руках своих, и было мне так спокойно среди страхов и ужасов, как младенцу на руках матери. Господь шёл впереди нас; Он побеждал врагов, а не мы. И какие победы, от Москвы до Парижа! Какая слава, – не нам, не нам, а имени Твоему, Господи! Когда на площади Согласья служили мы молебен, очищая кровавое место, где казнён Людовик XVI, и вместе с нами преклонила колени вся Европа, – я дал обет довершить дело Божье: призвать все народы к повиновению Евангелию; закон божественный поставить выше всех законов человеческих; сложить все скипетры и венцы к ногам единого Царя царей и Господа господствующих, – вот чего я хотел, вот для чего заключил Священный Союз…
Говорил, спеша и волнуясь; встал и ходил по комнате. Несмотря на красный свет лампады, видно было, как лицо его бледно. Потом опять сел и, упёршись локтями в колени, опустил голову на руки.
– В чём же вина моя? Ищу, вспоминаю, думаю: что я сделал? что я сделал? за что меня покинул Бог?..
Голицын хотел что-то сказать, но почувствовал, что говорить не надо, нельзя утешать; только тихонько, взяв руку его, поцеловал её и заплакал.
Оба – грешники, оба – мытари; но правда Божья была в том, что грешник над грешником, мытарь над мытарем сжалился.
– Спасибо, Голицын! Я знаю, ты любишь меня, – проговорил государь сквозь слёзы, целуя склонённую лысую голову. – Не я, не я один, ваше величество: вся Россия, пятьдесят миллионов верноподданных ваших…
– Ну, верноподданных лучше оставим, – поморщился государь с брезгливостью. – Чего стоит их любовь, я знаю. В Москве, во время коронации, толпа меня стеснила так, что лошади негде было ступить; люди кидались ей под ноги, целовали платье моё, сапоги, лошадь; крестились на меня, как на икону. «Берегитесь, – кричу, – чтоб лошадь кого не зашибла!» А они: «Государь батюшка, красное солнышко, мы и тебя, и лошадь твою на плечах понесём, – нам под тобою легко!» А в двенадцатом году, в Петербурге, в день коронации, когда пришла весть о пожаре Москвы, – с минуты на минуту ждали бунта. В Казанский собор к обедне надо было ехать; и вот, как сейчас помню: всходили мы с императрицами по ступеням собора между двумя стенами толпы, и такая тишина сделалась, что слышен был только звук наших шагов. Я не трус, Голицын, ты знаешь, но страшно было тогда. Какие взоры! какие лица! Никогда не забуду… А потом, при первой же удаче, опять: «Государь батюшка, красное солнышко!» Но я уже знал, чего любовь их стоит. Люди подлы, и народы иногда бывают так же подлы, как люди…