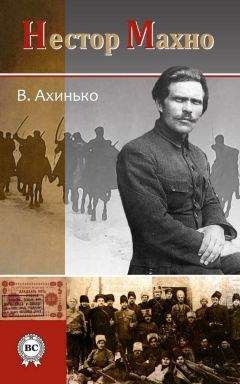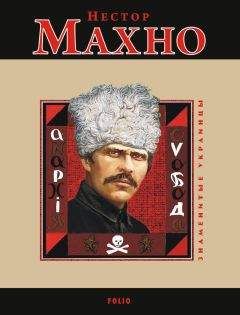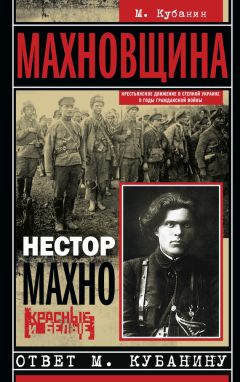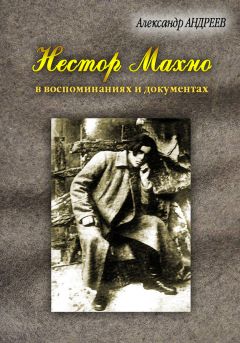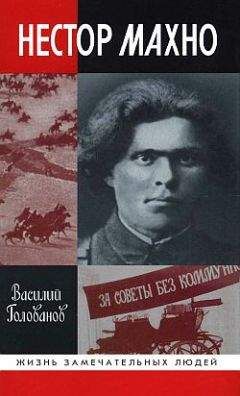О «Новой Декларации» больше не вспоминали. Батько тем не менее продолжал писать. Его спрашивали:
— Про что калякаете?
— Стихи сочиняю.
— Во-о, Пушкин нашелся! — шутили отдохнувшие, повеселевшие хлопцы. Их уже манил вольный простор.
А Махно всё переделывал на разные лады вирши Пети Лютого:
Ой ты, батько мий, стэп шырокый,
дэ обнимэмось мы з тобою?
Тайный голос нашептывал, что их лодка скользит уже к последнему порогу. Будут победы, и славно погуляют еще на воле. Но большую судьбу за хвост нет, не поймать. Голос ее труб затухал. Не поняли это хлопцы, эх, не вняли…
В крайне осторожных скитаниях из колоний в хутора минул апрель. Отцвели абрикосы, вишни, заневестились и яблони, когда появился долгожданный гонец. Прислал его атаман Глазунов. Сибиряк, он бил Колчака, получил орден Красного Знамени, служил в карательной дивизии и осенью перешел к махновцам. При распылении сил остался в плавнях Днепра и теперь, по теплу, желал присоединиться к Батьке. В начале мая прибыл.
— Еле вырвался! — докладывал Глазунов. — Осталось, едрена вошь, всего тридцать сабель и пять пулеметов.
— Зато каких! — подбодрил его Махно. — Прошли огонь, воду и медные трубы. Им же цены нет!
Он говорил это уже с тем азартом и силой, что так привлекали людей. Сибиряк с благодарностью обнял Батьку и поцеловал.
Через пару дней заявился с хлопцами Иван Херсонский — рабочий из Николаева. После чарки спросил:
— Ты, небось, дуешься, Нестор Иванович, на Харлампия Общего?
— А как же! Сволочь, ограбил церковь тогда, в Курской губернии, убежал от кары и целый полк увёл!
— Напрасно строжишься, — опустил голову Иван. — Общего зарубили. Мы шли к тебе, попали в ловушку. Почти весь полк лег костьми.
Махно вздохнул.
— Жаль Харлашку. Лихой был джигит. А это кто с тобой? Вроде знакомый.
— Э-эх, Батько, стареешь, — огорчился Херсонский. — Ану приглядись. Он же тебя спасал три года назад!
— Неужто Захарий? — не мог узнать его Махно, настолько тот зарос и заматерел. — Петрович? Ну, здоров! — они обнялись.
— Я неистребимый, — обрадовался Клешня. — Нэ дають помэрты продагэнты. Всэ забралы, и од мэнэ пощады нэ дождуться.
— Орёл! — похвалил Батько. — Да мы теперь разгоним любую дивизию! Ну что, члены штаба, в поход? Стыдно нам прятаться!
Что такое поэт? — Человек, который пишет стихами? Нет, конечно. Поэт, это — это носитель ритма.
А. Блок. «Дневник». 1921 г.
Слуха у меня не было, и любовь моя к музыке осталась слепой и беспомощной навсегда.
Л. Троцкий. «Моя жизнь».
Галина с Феней в косынках и широких крестьянских платьях пололи огород. Было тихо, солнечно. Над маками-самосейками гудели пчелы.
— Ой, погано, — сказала Галина, не разгибаясь. Подруга уставилась на нее. — Зэмля, як каминь. Голод будэ.
— Пессимистка, — усмехнулась Феня. — Еще всё впереди: дожди, грозы!
За огородом, в дремотных тростниках, голубела речка Берда, и оттуда со связкой рыбы шел дедушка Максим, у которого скрывались беглянки.
— Хватит вам кланяться. Пишлы! Уху варыть, — звал он.
Галина подняла голову и затаила дыхание. К их заброшенному хутору из пяти хат направлялись всадники. Сердце ёкнуло: «Нестор!» Но он летел бы соколом, а эти еле ползут. «Неужто чекисты? Кто-то выдал!» — мелькнула страшная догадка.
— Глянь, подруга, — шепнула Галина.
Феня распрямилась, посмотрела из-под руки, мазнула черным пальцем по щеке.
Дедушка подошел, улыбнулся.
— Вы вроде носами рыли капусту!
Но тут залаяли собаки. Хозяин тоже увидел незваных гостей, что приближались к хатам: верховые, подводы.
— Кого цэ черт нэсэ? — сказал озабоченно и засеменил во двор. Женщины нагнулись и продолжали ковыряться в земле.
Впереди отряда (было в нем не больше эскадрона) ехал военный в фуражке со звездой, гимнастерке и галифе.
— Ты кто, дед? — строго спросил он, спрыгивая с коня.
— Пасечник. Максым.
— Бандитов, случаем, не пригрел?
— Бог миловал. А вы, я бачу, красни?
— Зверев я. Не слыхал?
Судя по говору, командир был не местный, из России. Скуластое неприветливое лицо его запылилось.
— Чув про вас, чув, — кивал дедушка.
— Давно обитаешь на отлёте?
— Та вжэ рокив, мабуть, сорок. Пчел пасу.
Их обступали красноармейцы: всё молодежь, лет по двадцать или чуть больше.
— А кто это у тебя, старикан, в огороде? — поинтересовался один из них, белокурый, с перевязанной рукой. Смотрел недоверчиво.
— Дочки помогают по хозяйству.
— Ану зови! — приказал Зверев.
Галина с Феней пришли, стояли потупившись.
— Что ж вы, бабоньки, такие, фу-у, грязные? — усмехнулся командир. — Этот Максим на вас верхом, что ли, ездит? Мироед, небось?
— Вин добрый. Бидняк, — отвечала Галина, не поднимая глаз. Боялась выдать себя ненавистью.
— Трудящихся мы любим, — сказал Зверев. — А бандитов и толстосумов, как гнид, к ногтю! Ану, ребята, пошарьте в доме и вокруг. Оружие имеешь, дед?
Красноармейцы с винтовками наперевес побежали к хате, к сараям. Старик тоскливо проводил их взглядом, говоря:
— Якэ оружие, командир? Бэрданка була, и ту чэчэнци-каратели забралы. А у мэнэ ж пасика. Охранять надо.
Феня из-под полуприкрытых век следила за солдатами. «Найдут или нет карабины и гранаты? — беспокои лась с дрожью. — Куда им, молокососам. Ну, еще встретимся!»
— Говоришь, давно в этих краях? — обратился Зверев к Максиму. — Стало быть, всех знаешь в округе?
— На память не жалуюсь, — бодрился дедушка.
— Та-ак. Пока они ищут, мы проверим твою честность. Ану, топай сюда, — командир направился к подводам. Галина с Феней тоже пошли с ними. Там лежали мешки с зерном. Рядом ютились раненые.
— Узнаёшь? — Зверев указал пальцем на усатого мужика, что с перевязанной шеей покоился на сене. Галина глянула и обмерла. То был Трофим Вдовыченко — неустрашимый командир Азовского корпуса, последнее время скрывавшийся в соседнем хуторе. Видал его и дедушка, недавно встречались.
— Цэ хтось чужый, — глухим голосом отвечал пасечник.
— Ты, рухлядь, что… считаешь меня оболтусом? — злобно зыркнул Зверев. — Да его же здесь каждая собака нюхала! Отстреливался, гад, до последнего и в себя пулю всадил. Нам повезло — дышит. Не будь ты древним, дед — вот слово большевика — шлепнул бы тебя на месте за ложь. А так… патрон жалко.
Тут подошел старший красноармеец, производивший обыск, доложил:
— Ничего нет.
— Ну, пчеловод, молись, что припасы у нас на исходе! — рыкнул Зверев. — Этот бандит — Вдовиченко. Слышал? Вместе с сообщником двенадцать моих молодцов ухлопал. А ты… Бедняк, называется. Дерьмо ты несознательное! По коням!
Отряд покинул хутор, а его обитатели всё смотрели вслед карателям, опасаясь, что возвратятся.
— Пропал герой, — вздохнул дедушка Максим. — Редкой справедливости земляк. Помню его еще пацаном.
— Куда повезли Трофима? — спросила Галина. — Не иначе, як в Александровск. Там теперь центр губернии.
— Туда, туда, — кивал пасечник. — Ой, та в мэнэ ж рыба в капусти валяется! Пишлы жарыть и мэдовухы выпьем за його здоровья. Жывый же пока.
Галина чистила окуней, плотву и всё думала о Вдовыченко. Она видела уже тысячи убитых в бою, умерших от тифа, расстрелянных по приговору комиссии антимахновских дел, и сердце ее огрубело. Больные рубцы оставила в нем смерть отца, потом брата, и вот сейчас на очереди Трофим — железный воин. «Если таких теряем, — думалось, — то это всё. Последняя надежда — Нестор. Но где он? Весна кончается».
Когда сели за стол и выпили терпкой медовухи, дедушка повеселел, загоцррил погромче:
— Счастливые мы, девки!
— Та шо ж доброго? — не поняла Феня.
— На солнце смотрим, на виноград вот рядом. И чоловикы у вас е, диткы. Правильно?
Подруги переглянулись. Никто в округе не знал, кто они такие. Но Максим догадывался: по намекам, по гонору, который нет-нет да и проявлялся.
— Чьи вы — то не мое дело, — махнул рукой дедушка. — С пчелами хватает задушевных бесед. А еще когда я был дома, в Ново-Спасовке, под Рождество Христово приползла до нас сосед очка, тоже молодуха. Чую, хто-то скребется в двери. Думав, можэ, собака. Открываю — ой, Боже, — Настя лежит на снегу. А светло так, месячно. Втянул ее в хату, гладь — платье в крови. Обмыли мы ее с жинкой, перевязали, в постель уложили. Она плачет, еле голос подает. Накануне нагрянули до нас чекисты. «Де твой муж-махновец?» — требуют. Откуда Насте ведомо? У нее младенец на руках. «Обоих в расход!» — приказал командир, наверно, цэй самый Зверев. А бойцы свирепые: их повстанцы не щадят. Один интернационалист и гавкнул: «Еще две пули на них тратить!» — и выстрелил во младенца. Настя упала. Когда пришла в себя, сжимала мертвое тельце. Приползла до нас…