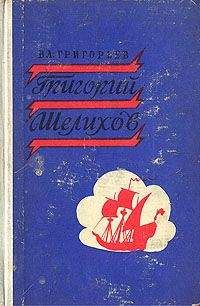— Козлятникова?! — вскричал мореход, забывая, что он находится перед иконостасом моленной. — Вот оно откуда пришло…
— Слушай, что дальше было, — строго остановила его Наталья Алексеевна. — «Ты будешь Боридзе Ираклий Георгиев?» — ткнул Завьялов перстом на Ираклия. А Ираклий, бледнее смерти, вскочил и стоит у окна, а окно — тепло было — в сад растворено, в саду солнушко… «Как осмелился ты, слышу, из Гижиги скрыться и в такой дом вобрался? В Петербурге доведались, что ты в бегах находишься, а мы туг не знаем, какой гусь среди нас ходит…»
Обомлела я, в уме смешалась, хочу сказать: «Да не ты ли, сударь, сам его к нам привел и десять рублей за хлопоты от Григория Ивановича принял?» — а слов, голоса нет у меня… «Вор ты, взять его!» — кричит Завьялов, а Ираклий, как не в себе, отвечает: «Я никогда вором не был, и не вам меня взять… Будьте прокляты, предатели!» — и с этим скок в окно. Завьялов к окну, «держи» кричит, а потом: «Уйдет… стреляй его!»
Подскочил к окну один какой-то дурной казачишко-бурятин, водит ружьем, нацеливает… Катенька, как увидела, закричала и хлебницу деревянную с пирожками в него кинула, а казачишка стрельнул и…
— Убил? — глухо отозвался Шеихов.
— Дышал Ираклий, когда мы пробились к нему, под кустом шиповниковым он лежал, под розанами твоими… Не давала я Ираклия со двора вывести, за Сиверсом погнала, думаю — выходим… Токмо Завьялов рыкает: «Приказано живым или мертвым взять». А кто приказал, не сказывает. Меня буряты, мигнул он, за руки держали, плат обронила — украли, Катеньке ноги оттоптали, а Ираклия… уволокли!
— Ну, а дальше как оно было? — прохрипел Шелихов. — Архимандрита Иоасафа, монахов почему недомекались на помощь призвать?
— Не было их дома. Токмо ты уехал, они все дни и ночи по купцам, вояжирам твоим, ходили… И что он сделал бы, казенный монах! — махнула рукой Наталья Алексеевна. — Я к Ивану Алферьевичу на третий день — Катенька без памяти лежала, я к ней Марфутку с Порумбой приставила — защиты просить Ираклию пошла… Надеялась — жив он и страдает у них…
— И чем же он тебе за старую хлеб-соль, за подарки наши помог?
— Не греши, Григорий Иваныч, друг нам истинный Иван Алферьевич, уйдет он — всплачешься… «Прости, говорит, меня старого, Наталья Алексеевна, все знаю, и хочешь — казни, хочешь — помилуй, а я и духом не виноват, все Завьялов своевольно наделал, и я его уж от должности отрешил и судить буду». Тело убиенного приказал с честью на кладбище похоронить, протопоп Афанасиев служил, он тебе и место покажет… «Хорошо любимца вашего помню, — говорит Пиль, — статный, чертил полезное и уж как легкодушно плясал! Душевно сожалею, но хотел бы, да не в силах воскресить бессчастного…» С тем и ушла я! Катюшку, живая она и горе у ней, пожалей и приласкай — месяц всего, как опамятовалась и благодаря Сиверсу, благодетелю нашему, на ноги стала, — закончила рассказ Наталья Алексеевна и опустилась на колени перед закопченными ликами угодников, единственных защитников и утешителей, как она твердо верила, в человеческом горе.
Шелихов поглядел на жену, вздохнул — знал, как страдает она, — не стал отрывать ее от молитвы и, осторожно ступая, вышел из моленной.
— У Козлятникова узел развяжу, поеду! — решил он, забыв о заказанной бане.
Пошел в свою комнату, отбросил крышку открывающегося со звоном-пением сундука, в котором по купеческому обычаю хранил деньги. Достал, не считая, горсть серебряных полтинников и выехал со двора с Никишкой.
Козлятников жил далеко на окраине города, в Слюдяной слободе, за впадающей в Ангару бурливой речушкой Ушаковкой. Перебрался он на эту окраину по случаю того, что много лет находился под следствием и счел за благо не мозолить глаза согражданам своим безбедным существованием.
Страшнее грозовой тучи навис мореход над Козлятниковым, сочинявшим очередную кляузу для кого-то из своих клиентов-купцов, в погоне за наживой вечно судившихся между собой. Вдохновение судейский крючок черпал в стоявшем перед ним штофе водки.
— Рассказывай, всю пакость выкладывай без утайки, — угрожающе-тихо сказал Шелихов и показал привезенную с собой суковатую дубинку. — Не то… душу выбью! — рявкнул он вдруг так грозно, что Козлятников, сразу поняв, зачем приехал к нему мореход, решил сдаться на милость.
— Не задержу, с-слово м-мое к-короткое, — выбивая дробь зубами и поблескивая злыми хорьковыми глазками, вымолвил Козлятников. — Дело было перед поездкой моей в столицу. Позвали меня Иван Ларионыч Голиков, а у него сидел, когда я пришел, Лебедев-Ласточкин… «Явишься, говорят, к Ивану Акимовичу Жеребцову и скажешь, мол, что именитый рыльский гражданин и иркутский первой гильдии купец и наш компанией Гриш… — Козлятников поперхнулся и опасливо поглядел на морехода, не заметил ли тот его оговорки, — и Америки знаменитый открыватель Григорий Иваныч Шелихов собирает и передерживает у себя, творя великий соблазн, масонов и каторжников, за тягчайшие проступки против величества сосланных. Просим распорядиться и каторжных в места им приуготованные выдворить…»
Козлятников перевел дух, взглянул на сидевшего в глубокой задумчивости Шелихова и — прошла первая гроза — гораздо смелее продолжал:
— И когда в Иркутск господин Кайданов, вам очень даже известный, приехали и на квартиру к Лебедеву — вы не догадались к себе зазвать — стали, Иван Андреич напомнил свою жалобу и в подробности рассказал, как вы старшую дочку за масона, извините, за Резанова, Николая Петровича, выдали, а вторую, младшенькую, за черкесина кавказского, повинного в оскорблении величества и вами из Гижиги сюда вытребованного, отдать собрались. Из Петербурга и пришло сюда распоряжение, а я, видит бог, тому непричинен, что Завьялов, для храбрости перепустивши водочки, натворил, и всегда я к семейству вашему с полным моим уважением…
Козлятников замолк. На него снова нагнали страх непонятные действия Шелихова, который вдруг тряхнул головой — хватит, мол, с меня, — вынул из кармана горсть серебра, усмехнулся презрительно и стал раскладывать монеты в три стопки.
— Получи, падаль, иудову плату — тридцать сребреников и поделись с теми, кои загубили неповинного человека… Стоило бы тебе хребет сломать, — поглядел мореход на свою дубинку, — да жаль руки пачкать, но гляди-и, — протянул Григорий Иванович, — еще раз наткнусь на твой след — не быть тебе живу!
Плюнул с отвращением ему в лицо и ушел, потрясши ударом дверей ветхий домишко.
Козлятников прислушался и, убедясь, что Шелихов уехал, дрожащей рукой налил себе стакан водки. Екнул и осушил его до дна. Потом сгреб оставленные на столе тридцать полтинников, подкинул их на ладони, широкой, как лопата, передернул обиженно плечами — плевок глаз не выест — и со вздохом, «за чужие грехи терплю», опустил деньги в карман.
3
По дороге от Козлятникова Григорий Иванович раздумывал о людях и обстоятельствах, приведших к гибели Ираклия.
Убийство ссыльного грузина в шелиховском доме, на глазах жены и дочери, останется, что ни делай, безнаказанным.
Козлятников, сознавшийся с глазу на глаз, в смертном страхе перед Шелиховым, в подлом сговоре, отречется от своих слов и, если нужно, с крестным целованием. Мало того, иудовы сребреники, брошенные ему в рожу, назовет подкупом моим, чтобы он, этот прохвост, донес на почтенных людей вроде Голикова и высоких особ в Петербурге. Не расхлебаешь каши!
Наместник? Генерал тоже, конечно, не поверит такому недоказуемому обвинению. Он и так уже поступил строже, чем требовалось по личности убитого: отрешил от должности пристава, исполнявшего высочайшее повеление… «Что еще, — горько усмехнулся Шелихов, — может сделать мне генерал в утешение? В покрытие крови Ираклия вспорет плетьми казачишку-бурятина? Гавриле Романычу Державину написать, просить пред царицей заступничества?..»
И тут же вспомнил, как Державин после сердитого отзыва о Глебовой на его глазах целовал ручки ввалившейся к нему вместе с Альтести вдове секунд-майора. Вспомнил и поморщился от сдавившей сердце острой боли…
На счастье, подъехали к дому. Мореход с трудом выбрался из саней и, пошатываясь, — до дна испил чашу людской злобы и своего бессилия — вошел в сени.
Наталья Алексеевна не знала, куда и зачем выехал хозяин из дому, и в большой тревоге поджидала возвращения Григория Ивановича.
Едва волоча налившиеся непомерной тяжестью ноги, Шелихов, как был в шубе и шапке, со свисающими малицами, ввалился в столовую и опустился на скамью у дверей.
— В баню не пойду… опять сердце схватило… Раздень! — пробормотал он невнятно и внезапно окрепшим голосом крикнул: — Голикова, ежели придет, не пущай ко мне!.. Убить могу!
Забыв обидную встречу с реки, Наталья Алексеевна проворными сильными руками раздела мужа, с трудом довела до спальни и, надев чистое белье, уложила в постель.