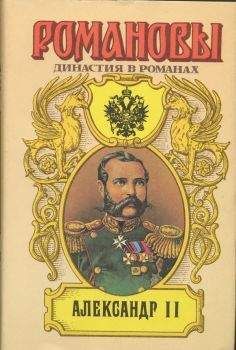– Это Ольга Лабатович, тоже наша… Народоволка. Вы спрашиваете, Ольга, страшно было, – повернулась Перовская к девушке. – Страшно? Да ничуть! Но ужасно волнительно. Прекрасное, незабываемое впечатление. Я лежала в мелкой поросли, вы понимаете, над снегом и поларшина кустов не было. На мне была ватная кофта. Про холод я совершенно позабыла, даже не помню, какая погода была. Жду… Полою кофтушки прикрыла фонарь и всё поглядываю на него, не погас бы.
– Жутко было? – сказала Вера.
– Жутко? Да нет же, повторяю – радостно. И сердце бьётся, бьётся… Слышу – гудит. На рожке, где-то вправо, сигнал подали. В ночной тишине так отчётливо прозвучал сигнал и показался мне печальным, печальным… Мне сказали, уверили меня – первый – свитский. Мчится, а меня так и толкает что-то… Не этот ли?.. В белом пару, фонари паровоза, как глаза какого-то сказочного чудовища, пар низко стелется, снег сзади вихрями крутится – прямо Змей Горыныч несётся. Сердце стучит: «Этот, этот, этот!.. Взрывай.» Я его успокаиваю, всё твержу: «Погоди, погоди…»
– Впрочем – всё одно, – печально сказала она. – Ничего бы тут не вышло. Всё вы, Андрей, в исполнительном комитете скупитесь на динамит. Мало дали. Ну что же, взорвали!.. А ничего серьёзного и не вышло. Ну, вагоны сошли с рельсов. Ведь если бы я и т о т взорвала, то того, кого надо было убить, и не убила бы. Один соблазн вышел бы… И вот, когда потом узнала, что не тот взорвала… У, как я тогда его возненавидела!
– Кого?
– Царя, Вера Николаевна… Как он мог догадаться? Говорят, всё время сзади шёл, а тут, как назло, в Курске приказал свой поезд вперёд пустить. Ужас! Предчувствие, что ли, было?.. А у тебя, Андрей, что случилось?
– Хуже твоего, Соня, – мрачно сказал Желябов и замолчал.
Стал рассказывать Тихонов.
– Как работали-то, Софья Львовна!.. Вот вы рассказывали про вашу работу, что и говорить, ужас один… Только и у нас тоже мороки немало было. Устроились мы под именем ярославского купца Черемисова у мещан Бовенко, дом у них сняли, будто кожевенный завод устраивать думаем. С нами были Пресняков и Окладский… Вот этот Окладский!.. Не иначе как он нам всю музыку и испортил. Нам нужно было сделать подкоп под насыпь. А насыпь там, у Александровска, сажен одиннадцать вышины, значит, как ахнем, так всё и полетит вниз к чёртовой матери, весь поезд не иначе как вдребезги. Тут ошибки никак не могло быть. Работали по ночам. Каждую ночь железнодорожная охрана раза четыре или пять спускалась с фонарями по насыпи и осматривала водопроводные трубы. Товарищ Андрей выговорил себе право собственными руками просверлить насыпь, а потом соединить провода для взрыва. Я и Окладский охраняли его, наблюдая, чтобы охрана чего-нибудь не заметила. Очень трудно было заложить мину. Мина тяжёлая… Принесём её из города, самое – закладывать, а тут то поезд идёт, то охрана шатается. Надо опять всё назад тащить, начинать всё сначала, ждать другой ночи. А ночи тёмные – зги не видать! Дожди, ветры, грязища такая в поле – ноги не вытянешь. И устали мы потому страшно…
– До галлюцинаций доходили, – сказал Желябов. – Я ночью плохо вижу. У меня что-то вроде куриной слепоты. Ползу я с миной – замечаю, стоит кто-то на пути… Смотрит на меня. Я залёг, аж не дышу. Тихо. Я лежу, и тот стоит, не двигается, смотрит на меня. Думаю, что я так поболе часа пролежал, дурака валял… Наконец, думаю, что он – боится, что ли, меня? Ну, хотя бы рукой двинул, пошевелился бы, нет, стоит, как статуя… Подполз я ближе. Гляжу – столб. Это я в темноте, значит, ошибся, не то направление взял и на дорожный столб набрёл.
– Мы часто блуждали в темноте, – сказал Тихонов. – Я как-то раз Андрея чуть было не застрелил. Лил сильный дождь с ветром и – темень… Иду я и вижу, кто-то громадный на меня надвигается. Ну, думаю, шалишь, живым не дамся. Выхватил револьвер, приготовился стрелять, а тот чуть слышно окликает меня: «Тихонов, ты?» Это я в темноте на Андрея набрёл. Как-то ночь уж очень бурная была, и мы не пошли на работы. Устали страшно от бессонных ночей и полегли спать. Вдруг слышу, кричит кто-то: «Прячь провода! Прячь провода!..» Я засветил свечу – Андрей по полу ползает, галлюцинирует. Насилу разбудил его.
– Немудрено… Я каждую ночь промокаю до последней нитки, лёжа в степной грязи, так, бывало, закоченею, что надо вставать, а ноги не повинуются, не сгибаются.
– Но всё-таки, товарищи, почему же у вас ничего не вышло?
– А вот, слушайте, Софья Львовна. Значит, наступает 18 ноября. Телеграммы нет… А у нас с центральным комитетом условлено, если телеграммы нет – значили перемены нет: царь выехал из Симферополя. Я с Андреем и Окладским поехал на телеге, запряжённой двумя лошадьми. Подъехали мы к оврагу, где были спрятаны провода, Окладский вынул провода из-под земли, из под камня, сделал соединение, включил батарею и привёл в действие спираль Румфорда. Надо вам сказать, что все эти дни Окладский скулил: «Ах, нехорошо мы затеяли. Сколько народа без всякой вины погибнет. При чём тут машинист, кочегары, поездная прислуга – всё же это свой брат, рабочие. Надо – царя одного, а других-то зачем же?..» Товарищ Андрей даже прикрикнул на него. А тут, видим, Окладский спокоен, деловит, даже как-то торжествующе спокоен. Весел. Напевает что-то сквозь зубы. Андрей мне шепнул: «Образумился товарищ Иван…» Сидим мы в овраге, монотонно сипит машинка Румфорда, всё у нас исправно. Андрей держит в руке провода наготове. Окладский сверху наблюдает за путями. Слышим – грохочет поезд, Окладский кричит Андрею: «Жарь!» Андрей соединил провода… Ничего… Поезд промчался, понимаете, над тем самым местом промчался, где была заложена мина, поднял за собою пыль и исчез вдали. Серое небо… Чёрная грязь и… ничего… Пусто, отвратительно пусто стало у меня на душе.
– Динамит, что ли, плохой?
– Нет, Софья Львовна, динамит у нас был тот же, что и у вас, нашей народовольческой динамитной мастерской из Баскова переулка, ширяевской работы, Якимова проверяла его. Запалы были из минного склада Артиллерийского ведомства. Суханов доставил нам. Мы их испытывали – без осечки работали. А видите ли – провода как-то, должно быть, лопатой начисто перерезали. Может быть, случайно какой мастер… А может быть, и нарочно… Окладский… Большое у меня, товарищи, на него подозрение. Я буду и в исполнительном комитете о нём предупреждать.
– Да, ни тебе, Андрей, ни мне не удалось, – печально вздыхая, сказала Перовская.
– Нет, Андрей Иванович, – с надрывом в голосе и со слезами на глазах сказала Вера, – никогда вам не удастся! Мне начинает казаться, что и точно царь – помазанник Божий и это Бог хранит его да всех покушений. Сколько их было – государь из всех выходил целым и невредимым.
– Ну, знаете, Вера Николаевна, – сказал Тихонов, – ежели так рассуждать, так надо складывать манатки, сматывать удочки и всё наше великое дело освобождения народа бросать.
– В Бога мы не верим, – строго сказал Желябов, – царя мы считаем извергом и причиною всего зла. От нами задуманного дела мы ожидаем бунта, который истребит всех царских палачей и опричников, сравняет богатых с бедными и установит народное счастье всеобщего равенства и свободы.
Разговор сразу завял. Тактичная, с тонким чутьём, Вера поняла, что в ту минуту, когда она так искренно сказала то, что подумала и почувствовала, её стали чураться. Она встала и стала прощаться.
– Софья Львовна, – сердечно сказала она, – вы не подумайте, что я разуверилась в нашем общем деле, что я больше не думаю, что только таким путём мы сможем подойти к строительству счастливой и свободной жизни русского народа. Я сказала это потому, что вот – везде неудачи… Гольденберга с динамитом арестовали, поэтому не удалось покушение в Одессе, куда, думали, морем приедет государь. Не удалось у Андрея Ивановича в Александровске, не удалось у вас под Москвой. Не удалось одиночке Соловьёву… Что же это такое?
– Не бойтесь, Вера Николаевна, удастся, – сказала Перовская, доставая какую-то бумагу. – Вот почитайте на досуге, всё узнаете. Это наше решение. Только смотрите, не попадитесь…
Вера ушла смущённая, со смятённым сердцем, провожаемая холодным, недоброжелательным молчанием.
В тот же вечер Желябов, в меховой шапке, с пледом на плече, приличном драповом пальто, на дилижансе-«кукушке» проехал по Гороховой до Адмиралтейской площади, обогнул Александровский сад, наискось пересёк Сенатскую площадь, по пешеходным мосткам перешёл Неву к Академии художеств и по 4-й линии прошёл на Малый проспект Васильевского острова.
Он попал в тихие и пустынные места. Глубокий, совсем почти не наезженный санями снег лежал на улице, на бульваре он был по колено, и низкие скамейки почти вровень со снегом были точно прикрыты длинными пуховыми подушками.
Ночь была тихая, и от снега было светло. Низкие деревянные дома стояли с наглухо закрытыми ставнями. На углу спал в санях, накрывшись полостью, извозчик, и когда Желябов вышел на проспект, серая кошка перебежала ему дорогу.