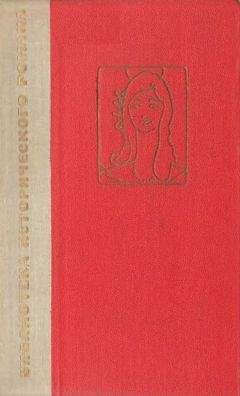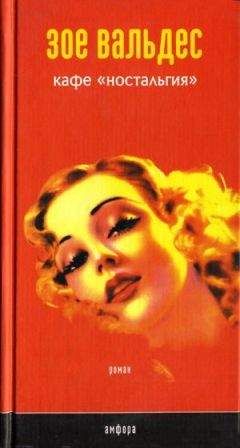Получив через Малангу необходимые сведения о местонахождении Дионисио Гамбоа, Тонда с беспечной самоуверенностью человека, отважного до безрассудства, отправился на поимку беглого негра. Когда Дионисио, работавшему в мастерской, сообщили, что его спрашивает Тонда — а это имя знали в городе все, — у бывшего повара сеньоров Гамбоа не осталось ни малейшего сомнения относительно намерения полицейского, и в уме его мгновенно созрело решение. Он поднялся со скамьи, на которой сидел, и, заложив руки за спину, как человек, сдающийся на милость победителя, направился к двери.
Покорный вид, с которым Дионисио появился на пороге мастерской, побудил преследователя двинуться навстречу беглому рабу, и это движение оказалось для Тонды роковым. Как мы уже упоминали, порог дома был; высоко поднят над уровнем улицы. К тому же в это время перед дверьми мастерской, загораживая выход из помещения, стоял какой-то наемный экипаж. И Тонда, который, спешившись, ожидал Дионисио на улице, отступил на два-три шага, чтобы дать пленнику дорогу. В тот же миг, коварно воспользовавшись этой неосторожностью, Дионисио бросился сверху на своего преследователя и одним движением ножа, сапожного ножа, которым он раскраивал кожу для набоек, вспорол полицейскому живот от бедра до бедра. Несмотря на смертельную рану, отважный Тонда кинулся вдогонку за своим убийцей, но, сделав несколько шагов, упал бездыханный посреди узкой, похожей на овраг улицы.
Событие это действительно имело место, и почти все его обстоятельства описаны здесь в соответствии с исторической правдой.
Вся по нем исстрадалась душа:
Коль нейдет он — весь день я тоскую,
Коль придет — я сама не своя.
А уйдет — слез унять не могу я.
И. Велардо
Как-то утром, в один из мягких январских дней, сердце Сесилии забилось от внезапного предчувствия, и она сказала себе: «Верно, он сегодня придет». С этой минуты она уже не могла думать ни о чем другом, и работа валилась у нее из рук. Томимая нетерпением, она то и дело вставала со своего места, чтобы выглянуть в окно, словно это могло приблизить желанную минуту свидания, и каждый раз в бессильной тоске вновь опускалась в качалку, стоявшую у противоположной стены комнаты. Казалось, она вся превратилась в зрение и слух, а между тем чувства ее находились в каком-то странном оцепенении, она была как в тумане: прислушивалась — и не слышала, смотрела — и не видела. И когда наконец возлюбленный ее действительно явился, она не сразу осознала это; какое-то мгновение ей чудилось, что не сам он стоит перед нею на пороге дома, в проеме распахнутой двери, и что она видит отражение дорогого ей образа в каком-то большом зеркале. Однако уже в следующую секунду она, раскрыв объятия, бежала навстречу Леонардо и в порыве любовного безумия страстно обнимала и целовала его, не противясь и его объятиям и поцелуям. Старые обиды, помыслы о мести, предполагаемое непостоянство Леонардо и пренебрежение, которым он оскорбил ее, уехав на рождество в деревню, — все в этот миг было забыто. Свершилось чудо: непродолжительная разлука вновь породнила их, словно брата с сестрой, вновь превратила в верных друзей и нежных любовников.
— Ты одна? — спрашивал девушку Леонардо.
— Одна, — тихо отвечала ему Сесилия.
— Ты ждала меня? — с нежностью проговорил молодой человек, обняв ее за талию и не отпуская от себя.
— Каждый день и каждый час! — в страстном самозабвении призналась Сесилия.
— Кто тебе сказал, что я сегодня приеду?
— Мне сердце подсказало.
Он снова поцеловал ее в глаза и в губы и молвил:
— Ты побледнела и похудела с тех пор, как мы расстались.
— Мне пришлось провести немало бессонных: ночей у постели мамочки, и это не прошло для меня бесследно. Да и других горестей было вдоволь…
— Когда заболела бабушка?
— Ей уже давно нездоровилось, весь прошлый год. Но всерьез она захворала в ночь под рождество. Когда я вернулась домой — это было часов около двух ночи, — я нашла ее в сильном жару… Больше она уже не вставала.
— А где же ты была так поздно? — удивился молодой человек.
— В одном месте.
— В каком же это месте?
— Ах, ну в одном месте.
— Ты скажешь мне, где ты была? — спросил Леонардо, сразу становясь суровым.
— А я так жду, чтобы вы мне рассказали, где вы провели все это время, — не менее сурово отвечала Сесилия, платя Леонардо той же монетой.
— Ты ведь знаешь, где я был.
— Да, в инхенио. Вы мне об этом уже говорили. Но, кажется, я не просила вас туда ездить!
— А! Вот оно что! Ты хочешь мне отомстить! Стало быть, ты отправилась развлекаться потому, что была сердита на меня?
— Я — сердита на вас? Очень надо было! А мстить вам — за что? Но только я не люблю, когда меня считают дурочкой, и водить себя за нос я тоже никому не позволю. Вы отправились в инхенио веселиться со своими приятельницами. А я чтобы сидела тут взаперти, как монашка в монастыре? Не слишком ли многого вы захотели?
— Но ведь я же не по собственной воле туда поехал. Мне было бы куда приятнее остаться здесь. Это мама решила увезти меня во что бы то ни стало… Ведь я же тебе говорил.
— Говорить все можно, язык без костей.
— Но я говорю правду.
— Полно! Вы разве сделаны не из того же теста, что другие мужчины? Из того же, из того же самого! Мужчины всегда говорят правду, а то как же! Солгать ведь это грех! Но был ли на свете хоть один из вас такой, что не обманул бы при случае даже самую достойную женщину?
— Не суди о том, чего не смыслишь!
— Не смыслю? И очень даже смыслю, гораздо больше, чем вы думаете! И не родился еще тот умник, что сумел бы меня провести.
— Не болтай глупостей, и оставим весь этот вздор. Ты сегодня только и выискиваешь, к чему бы придраться. Но ведь ты же не хочешь со мною и в самом деле поссориться? Скажи мне, где ты была в ночь под рождество?
— Вы что же — силком меня говорить заставляете?
— Нет, зачем же? Я — по-хорошему, радость моя. Силком мне от тебя и райского блаженства не надо.
— Добро же. Так вот — я была на праздничном балу для цветных в доме Сото, в предместье.
— А как ты туда попала?
— Дошла пешком.
— Я не об этом. Кто тебя туда пригласил? С кем ты ходила на бал?
— Меня пригласил портной Урибе, он был в числе устроителей. А пошла я туда с его женой Кларой, с Немесией и с Хосе Долорес, ее братом…
Леонардо нахмурился: он не смог, да, впрочем, и не захотел, скрывать своего неудовольствия.
— Не рой другому яму, сам в нее упадешь, — проговорила, усмехаясь, Сесилия. — Что же я еще могу вам сказать после того, как вы отправились на праздники миловаться с этой своей деревенской красоткой?
— Я вижу, ты не упустишь случая меня чем-нибудь попрекнуть, — возразил Леонардо, стараясь не показать своей досады. — Ты даже готова принимать чьи угодно ухаживания, лишь бы только побесить меня.
— Чьи угодно? Ну, не такая уж я неразборчивая. Есть немало мужчин, которых я все же не могла бы полюбить, как бы ни была сердита на избранника своего сердца.
— Это очень плохо, что ты такая ревнивая и мстительная.
— А вы попробуйте быть верны и постоянны, тогда вам не придется сетовать на ревнивых и мстительных женщин.
— Но ведь в том-то вся и беда, что ревнивая женщина не способна оценить верность и постоянство даже в самом безупречном поклоннике. Что проку в моем постоянстве и верности, если ты принимаешь ухаживании мужчин, с которыми не должна иметь ничего общего?
— Это чьи же ухаживания я принимала? Говорите прямо.
— Сказать тебе прямо? А с кем ты ходила на этот бал, когда меня здесь не было? С кем ты танцевала? И у кого ты теперь живешь?
— И это вы называете принимать ухаживания?
— А как это иначе называется? Трудно придумать более верный способ покорить женское сердце.
— Только не мое. Мое сердце заковано в латы и заперто на железный замок. И если есть человек, к которому вы не должны меня ревновать, так это брат Немесии. Мне кажется, между нами никогда не было ничего, кроме самой сердечной и бескорыстной дружбы. Мы знаем друг друга и общаемся с самого детства. Мы с ним играли в жмурки и в мяч, мы вместе выросли и никогда не думали о любви, по крайней мере я об этом никогда не думала. Я знаю, что он любит меня всем сердцем, что он душу за меня готов отдать, что он чувствует себя счастливым, если может мне чем-нибудь услужить, что он гордится, когда может угадать заранее мою мысль, и бывает огорчен, если мне приходится самой просить его даже о самой пустой малости; что он корит себя тогда, почему не смог предупредить мое желание; я знаю, что он и волосу не даст упасть с моей головы, что он готов ради меня на любое безумство, что нет для него на свете девушки лучше и краше меня, что он ревнует меня к вам и что эта ревность снедает его, — и все же он никогда не говорил мне о своей любви. Он человек умный, и он знает, бедняжка, что я никогда не полюблю его и не выйду за него замуж. Сколько раз я перехватывала его взгляды, когда он смотрел на меня. Так смотрят только на святые образа, когда молятся в церкви. Но я всегда делаю вид, будто ничего не заметила и не поняла, а он ни разу не посмел со мной объясниться. И таким скромным он был всегда, сколько я его знаю. Он деликатен, как женщина, и так благовоспитан, так отменно любезен и почтителен с дамами, так благороден в обращении с мужчинами! Если бы не темная кожа, он в любом обществе был бы принят, как истый кабальеро. Все это я рассказываю вам потому, что вы, как мне кажется, не чувствуете к нему расположения и смотрите на него с каким-то недоброжелательством.