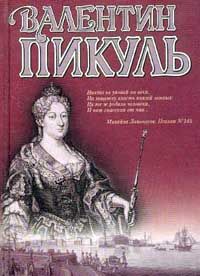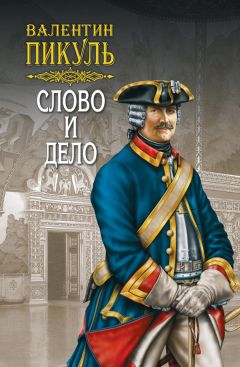— Я, — кричала Катька на весь острог, — не порушенная от его величества! Мое право на престол российской еще не отнято…
А Наташа думала тогда: «Ну и дура же ты, Лексеевна!»
Об одном Наташа часто печалилась: ей в сад хотелось, чтобы яблок нарвать… а потом — вишни, сливы. Ничего здесь нету: вот хлеб, клюква, рыба мороженая, мясо собачье да оленье, молоко — тощее, синее, будто сыворотка… Зато водка здесь крепкая!
Писала она на Москву своему братцу — графу Петру Борисовичу Шереметеву: вышли мне сюда яблочков, хоть моченых, да пришли с оказией верной готовальню мою, посмотреть на нее желаю, а яблочком твоим, братик родный, слезу горькую закушу… Ничего ей брат не ответил: «слова и дела» боялся, мерзавец! А ведь тысячи душ крепостных имел — мог бы от богатств своих хотя бы яблочко сестре выслать… Наташа долго по этому случаю плакала, потом рукою повела крест-накрест, слоно брата навсегда для себя зачеркивая, и сказала тогда:
— Апелляции из острога нету… Пользуйся, брат! Утром муж проснется с похмелья. Начинает старое поминать. Как жил. Какие кафтаны нашивал. Что съесть успел. Что выпить.
— Хватит вам, сударь, тарелки да кубки пересчитывать, — вспыхивала Наташа. — Говорила я вам, чтобы в деревню ехать. От двора подалее. А ныне… Вот лежит дите мое! Уж как люблю его, один бог знает. А буди мне ведомо, что он, в возраст придя, ко двору царскому сунется, так мне легше его сейчас за ноги разболтать да — об стенку! Так и тарарахну насмерть! Только бы уверену быть, что окол престолов мои дети порхать не станут… В мире эвтом много занятиев для людей сыщется — более придворных полезнее!
— Дура-а, — стонал князь Иван. — Ой и дура-а же ты…
— Нет, сударь. Ошиблись: высокоумна я! Через стены острожные шла молва о Наташе, как о женщине в чести и разуме крепкой. Выйдет она на улицу, всяк березовец издали ей поклонится — и стар, и млад. Слова дурного о ней не придумаешь. По городу слухи ходили:
— Наша императрица — курва самая последняя! Уж коли таку кротку бабу Наталью выслали, так, видать, в Рассей порядков не стало…
Березов жил сам по себе: Петербург слишком далек, там престол, там перемены, там какой-то Бирен (значение которого до конца березовцы так и не понимали), там войны разные, а здесь снег да тишина… рай. Ругай, круши, матери! Воевода Бобров не выдаст — свой человек. Закостенел, заберложил, бородой зарос (тоже яблочка лет с двадцать не кушал). Спасибо Тобольску: иной раз пришлют оттуда бочку с капустой квашеной, тут все накинутся с ложками, и в един час всю бочку — до самого дна — под водку стрескают!
Хорошо жили… тихо. Раздумчиво.
Дай-то бог и далее так жить.
— Нам Питерсбурх не в указ, — говорили березовские. — У нас Тобольск есть, а там губернатор… Ну и хватит нам'!
А весна выдалась пригожая. Посреди острога был копан (еще Меншиковым) ставок, и слетались туда лебеди. Наташа кормила их хлебом, они ей свои шеи давали гладить. Экие умниды! А месяц май закатился над тундрами незаходным солнышком. Растеплело в краях березовских. На берегу речном размякли сугробы, из-под снежной замяти кресты выступили — князей Меншиковых да Долгоруких. — И в один из ден все опальное семейство потянулось гуськом из острога — пошли проведать папеньку с маменькой… Каково-то лежится им там? Первыми шли в паре Наташа с Иваном, и князь Иван, на диво трезвый, руку жены в своей руке держал и говорил слова хорошие:
— Наташенька, ангел ты мой, прости меня… Ей-ей, слаб человек посередь страстей мирских. И только вот, на виду могил, от греха бежать желаю. Ах, синица ты моя! Люблю я тебя, Наташа…
За ними, голову задрав, на солнце глядя, будто ястребица, шагала порушенная невеста царская Катька. У нее даже сейчас много всего было напрятано. Вот и сегодня убрала жемчугом копну волос своих, а на руке манжет имела особый, а в манжете том — медальон, на коем портрет царя покойного… Шли за Катькой братики — Николашка, Алешка, Санька и бубнили молитвы, спотыкаясь. За братцами — золовки Наташины: Анька да Аленка — эти две (еще глупые) тоненько выпевали нечто божественное.
Вот вышли семьей на берег — к часовенке. Стали у крестов печали свои выплакивать. А Наташа в сторонку отошла, чтобы одной (без Долгоруких) о себе поплакать. Расселись внизу раскисшие, словно грибы после дождя, березовские строения — гниль да труха, мохом затыканная. Чадные дымы выплывали из дверей и окон. Из церквушки Рождества богородицы вышел к Долгоруким березовский поп, отец Федор Кузнецов, человек добрый, и стал увещать он князя Ивана.
— У меня, — говорил, соблазняя, — не брага, а чисто музыка духовная… Трубы нет, так я ружьецо казачье приспособил. Прямо из ружья бражка льется, наварена. Опосля божественного исполнения пойдем, князь, ко мне и помянем родителей ваших!
«Опять, значит, напьется Иван…»
Сверкала река, и смотрела Наташа вдаль — вот бы ей плыть, плыть, плыть до Тобольска. Потом на санках бы, сынка к груди прижав, она бы ехала, ехала, ехала… Соли Камские, Мамадыш да Казань татарская, потом Нижний в куполах да башнях, а потом ударит в уши граем вороньим, плеснет в глаза блеском, вскинутся кони, и вот она — Москва… край отчий… кров и покой… Так вот и смотрела Наташа, мечтая, в даль речную. Вдруг белая искорка блеснула за излучиной.
— Ой, что это? — испугалась Наташа. — Гляньте-ка! Да, теперь все видели — шел кораблик, неся мачты. Ветерок набил полные пазухи парусов — они вздулись, ветром сытые. А напротив самого Березова-городка в воду убежал канат якорный, и лодочка к берегу стала подходить.
— Не за нами ли? — пригорюнились Долгорукие. — Эвон и солдаты там с ружьями на нас глядят… Как бы беды не стало!
По высокому берегу бежал офицер — флотский. И еще издали его улыбку заметили. А сам-то молод, на ногу скор и брови черные…
— Ой… ой… — провыла Катька. — Никак это… он? Наташа сбоку глянула: стояла невеста порушенная, ни жива, ни мертва. В лице ни кровинки. А офицер, оглядев опальных, сказал:
— Лейтенант Овцын я… И прибыли мы с добром, чтобы далее отплыть. И про страны Полуночные все дельное вызнать. Ну а вы, господа, как живете-можете?
Тут Катька глаза опустила и, словно в былые времена, чинила политес офицеру на глине скользкой. Среди кочек болотных приседала она, боками платьев шурша заманчиво.
— Милости просим… до острогу нашева, — говорила чинно. — Чего, сударь, ранее к нам не приезживали? Уж мы рады…
Анька с Аленкой хотя и глупы еще, но уже девицами стали. Они тоже на лейтенанта завидно поглядывали. Но Овцын, с князем Иваном сойдясь наскоро, вечером пить вино к подьячему Тишину закатился. Скулу ладонью подпер. Слушал, что говорят. Тишин ему невзлюбился — ярыга! А вот боярский сын Яшка Лихачев, за разбой в Березов сосланный, ему приглянулся.
— Атаман, кой год здесь, небось места здешние знакомы?
— Оно так. На пузе все исползал. За бобрами. За утками.
— Вот и ладно! — кивнул Овцын. — Завтра спозаранку, как проснешься, возьми казаков и до окияна самого ступай.
— А меня куды зашлешь? — скалил зубы Тишин.
— У тебя изо рта скверной пахнет, — ответил Овцын. — Мне такие не надобны… Пей вот, сопля подьяческая!
И, здорово подьячего обидев, Овцын ушел от него — сам чистый, ладный, быстрый. На боку его звенел кортик, и на нем вписано: «Богу и Отечеству», а на лезвии: «Виват Анна Великая», — слова те казенные, от них скука бывает…
А пока он делами занимался, княжна Екатерина Долгорукая медальон с портретом царя с руки сняла и говорила сестрам своим младшим так:
— Ежели вы, опята острожные, еще раз на лейтенанта мово глазами впялитесь, так я вам глаза-то ваши бесстыжие вилкой повыкалываю. Одна я любоваться им стану. Мне всегда навигаторы нравились!..
Она этого лейтенанта сразу взлюбила: у нее и тогда, на берегу, сердце екнуло. «Он!» — сказала, будто о суженом. Где-то граф Миллезимо-красавчик? Небось в Вене своей, при короле отплясывает… Бог с ним! Эвон и черемухой дали обрызгало, эвон какие румяные закаты пошли полыхать, эвон и птица в кустах свиристелит…
— Куда уходите, Дмитрий Леонтьич? — спросила Катька. — Что недолго у нас гостили?
— Иду я, Катерина Лексеевна, далече от вас. Путем древним плыть мне, како и предки наши в Мангазею с товарами плавали. Воскресить курсы забытые надобно и на карты все разнесть причинно, чтобы другим кораблям ходить в те края не опасно было.
— Вернетесь ли? — обмерла Катька, печалуясь.
— Вернемся. До заморозу жить у окияна не станем. Я людей своих, как начальник, присягой беречь обязался. Да и мне приятнее возле вашего обхождения зиму провесть, нежели в снега зарыться…
Овцына перед отплытием навестил воевода Бобров:
— А вот, лейтенант мой ласковый! Уж скажи ты мне, как человек шибко грамотный: будто (слух такой дошел) Россия наша с сорока королями в войне сцепилась, и от Питера царского хрен с маком остался… Верить тому или из ушей поскорей вытрясти?