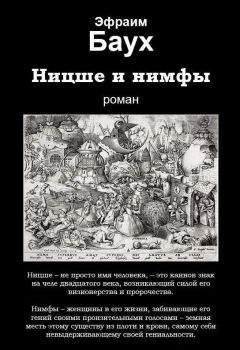Ознакомительная версия.
Я понимал, что после «Заратустры» эта книга будет всего лишь комментарием. Но комментарий, сам по себе, был уже опубликован в ряде произведений, начиная с книги «По ту сторону добра и зла» и заканчивая «Сумерками идолов».
При всех играх и уловках я всегда заботился о своей репутации философа и стилиста и никогда не опубликовал бы ничего, что вызвало бы прямые нарекания в мой адрес как несостоятельного мыслителя или же неумелого писателя.
Я собирался предугадать, наметить, рассказать Историю двух последующих столетий, описать то, чего уже нельзя более избежать. Речь о неудержимом нарастании нигилизма. Эту историю можно рассказывать, ибо неотвратимость этого уже здесь и действует. Это будущее дает о себе знать через сотни признаков, этот рок уже повсюду возвестил о себе.
Каждое ухо уже навострилось на эту гибельную музыку будущего.
Долгое время вся наша европейская культура с мучительным напряжением, нарастающим от десятилетия к десятилетию, движется к Катастрофе, — беспокойная, неистовая, опрометчивая: как река, чувствуя приближение бездны, торопится ее достичь, чтобы в нее рухнуть, и течь дальше умиротворенно по равнине.
В отличие от реки, человечество, предчувствуя приближение к бездне, тоже фатально ускоряет свой бег, чтобы рухнуть в эту бездну самоубийственным обвалом и вообще исчезнуть.
261
У человеческого сброда — называй он себя элитой — интеллектуальной или владеющей властью, — есть постоянная скрытая болевая точка. И он пытается перекрыть ее более сильной болью: кровавыми смутами, велеречиво называемыми им революциями, кровопролитными войнами.
И тут, вдруг, в общем-то ниоткуда, возникает существо — провозглашает, что Бог умер и на его место пришел Сверхчеловек. Но, главное, он давит на ту самую болевую точку, которую все пытаются оттеснить в забвение, торчит на виду у всех, как бельмо в глазу.
Ненависть к нему застилает всем глаза, заставляя худо-бедно преодолевать причиняемую им боль. Следует дезавуировать этого типчика, нарушающего и так с трудом поддерживаемый покой.
И самое испытанное веками тирании средство — нет, нет, не казнить, а объявить его сумасшедшим и упрятать в дом умалишенных, пока он не успокоится. Всегда найдутся врачи — грачи, каркающие «Чего изволите», и во всеуслышание объявят диагноз — паранойю.
А тут — какая удача — подворачивается сестрица буяна, такая душенька, готовая продать собственную душу Мамоне. Запах золота сводит ее с ума. Она продаст собственную мать, не то, что брата, по всем признакам человека невменяемого. Ну, как можно по-иному объяснить озабоченность этого маньяка вечностью?
Ведь только безумцы уверены в своем бессмертии.
Так все выстраивается, согласно железобетонной логике филистеров, облаченных властью.
262
Летним днем девяносто шестого года я, дремавший среди бумаг в музее моего имени, проснулся от невероятного шума.
Во сне меня преследовало самое холодное из всех хладнокровных чудовищ — Германская империя, означающее конец немецкой культуры и философии, ибо могущество одуряет.
Сон был прерван на видении Апокалипсиса, накрывшего в будущем Париж: город высокой культуры внезапно стал плакатно призрачным на фоне не просто войны, — а обыкновенной бойни.
Всю ночь во сне за мной следили холодные глаза Медузы-Горгоны — моей сестрицы, в которых расчетливость и хищность застилала ее облик, привычный для меня с детства.
Я-то знал, что она задумала, методично, со знанием дела, превращая мою отшумевшую жизнь и творчество в свое доходное «дело».
Моими невольными осведомителями были ее безликие помощники, страдающие недержанием речи и относящиеся ко мне с той же небрежностью, с какой относились к мебели и вещам музея моего имени, которые они с невероятным шумом и треском выносили из дома.
Эти двуногие муляжи пользовались оборотами речи Ламы, из которой я понял, что она перевозит музей моего имени в город с таким убаюкивающим названием — Веймар — колыбель сумрачных германских гениев.
По ее расчетам, в этой Мекке немецкой культуры с особенной силой заблистает, затмив сумрачностью всех предыдущих гениев, фигура ее брата, безумного философа, интерес к которому растет не по дням, а по часам. Ее стараниями, весть обо мне разнеслась по всем городам и весям.
Я понимал, что мое полное собрание сочинений, о котором она хлопочет денно и нощно, выходит в самое неподходящее время. И все, истинно выстраданное болью моей души, обернется ею в угоду нетерпеливым ожиданиям немецких бюргеров и сброда, называемого народом, — «Нового рейха». Пришибленность национализмом не оставляет в их и так недалеких головах даже капли здравого смысла.
Итак, наступает судьбоносный миг: моя личность и моя философия наглухо отделяются от некого дела моей сестрицы, не имеющей никакого дела и никакого отношения ко мне, к моей философии, к моим книгам.
Недаром долгое время мне мерещился мой фальшивый двойник.
Совсем одряхлевшая Мама вообще не выходит из своей комнаты, Лама где-то носится вся в заботах, как бы до предела использовать в своих низменных целях мою, по ее мнению, пустую оболочку, из которой улетучилась личность.
Потому, никем не понукаемый, я весь обратился в слух, вникая в болтовню помощников Ламы.
Меня волнует одно: заберут ли и меня, как главный экспонат музея, и неважно куда, главное, моя душа клятвенного странника исходит тоской по дороге.
Помощники Ламы болтают во весь голос, не обращая на меня никакого внимания, но все касается меня. Оказывается, Лама, с непререкаемостью медицинского светила, вбивает в голову всем и каждому, что у меня был апоплексический удар, как следствие нервного истощения из-за чересчур напряженной работы и вредного воздействия успокаивающих лекарств.
Но она отлично знает, что неоднократно обследующие меня те врачи, которым я доверяю, подтверждают, что я нахожусь в полном сознании, и нет у меня никаких признаков физических расстройств, какие неизбежны при апоплексическом ударе.
Конечно, сестрицу это не устраивает, что совпадает с недовольством властей Германской империи и христианской церкви, которым я бросил вызов.
Зная их мстительность, я многие годы с ужасом ожидал, что их длинная иезуитская рука достанет меня в Швейцарии или на берегах Средиземноморья, каждый раз — после выхода в свет очередной моей книги. Может быть, именно, поэтому я так часто менял места моего проживания, затем превратившиеся в истинную страсть странника.
Позднее страх ослабел, но беспокойство меня не оставляло, особенно, когда время от времени апологеты церкви повторяли, что меня покарала рука Божья за резкие нападки на христианскую мораль, которую они проповедуют с церковных кафедр.
В признаки прогрессивного паралича, как следствия перенесенного сифилиса, приводящего к нарушениям функция головного мозга, найденные у меня другими врачами, я вначале и сам поверил, прочитав горы медицинской литературы и найдя у себя симптомы всех описываемых болезней.
Но со временем я перестал всерьез принимать эту литературу — настолько она была общей, туманной, порой с диагнозами, противоречащими друг другу — после того, наткнулся на мнение всемирно известного врача, что прогрессивный паралич вообще не является душевной болезнью в собственном смысле слова.
Затем я зациклился на мысли, что вся эта шумиха вокруг меня может быть отличной завесой от агрессивной глупости этого мира.
Как только самые близкие мои друзья — Овербек и Гаст — начинали об этом догадываться, я тут же каким-нибудь нелепым поступком заставлял их усомниться в своих подозрениях.
Прогрессивный же паралич у меня, вопреки самому себе, подозрительно долго — более двадцати лет плодотворной творческой деятельности — не прогрессировал.
Теперь мои книги с пробудившимся большим интересом читают врачи — в поисках симптомов душевного расстройства автора. И все, что в этих книгах эпатирует новизной и не воспринимается их ограниченными умами, относится ими к признакам неадекватности, прогрессивно переросшим в безумие.
А ведь, по сути, все отклонения в моем поведении умещаются в рамки обычной нервной реакции на нелегкую жизнь холостяка, столько лет живущего в столь отвлеченной области духа, какой является философия.
263
Полдень полон полынной скуки. Тот самый Вечный полдень Заратустры, стрелка вечности под тихим небом Веймара.
Лама обустраивает обширный дом на Луизенштрассе, — виллу Зильберблик. Туда, без всяких церемоний, сестрица перевезла и меня. Больная Мама осталась доживать в одиночестве в Наумбурге. Помощники Ламы, все же, вняли моей просьбе: повели в церковь Петра и Павла, к знаменитому алтарю работы Лукаса Кранаха старшего. Наняли извозчика, и он провез меня мимо стоящих рядом на вечной страже истинной немецкой культуры парной статуей — Гёте и Шиллера, напоминающих о литературном расцвете Веймара в восемнадцатом — начале девятнадцатого века. Для меня же главным было то, что в этом городе Иоганн Себастьян Бах написал свои знаменитые токкаты. Полдневное солнце сияет над Веймаром. И в саду Лама, неугомонная моя сестрица, угощает чаем знатных гостей, которые проделали долгий путь — из Бразилии или из Перу — чтобы увидеть меня воочию. Как египетская мумия, которая почему-то забыла окончательно умереть, я наблюдаю за спектаклем моей смерти, чувствуя себя прахом перед гостями. Спасают меня молчание и мысли о Бахе, и пока длится визит гостей, у меня созревает посвященное Баху стихотворение. Потустороннее молчание касается меня, как милосердие и снисхождение к человеку, лишенному возможности преодолеть предел между тем и этим миром.
Ознакомительная версия.