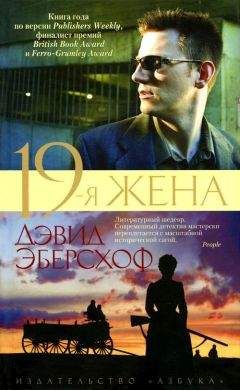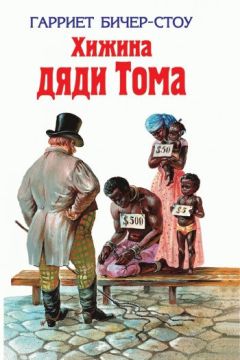Я ранее не говорил Вам об этом, так как не хотел, чтобы мой пессимизм или моя личная заинтересованность как-то окрашивали Ваше исследование. И все же мне следовало открыть Вам, профессор Грин, в моем первом письме кое-что об отношениях, сложившихся между мною и мамой. Если бы я это сделал, Вы были бы лучше вооружены для того, чтобы разглядеть мои предубеждения, которых я — как мне хочется думать — вовсе не культивирую, но, разумеется, все же культивирую, как всякий нормальный человек, и виноват в этом, как все мы, а может, и еще больше. Я утаил от Вас важную информацию, и в этом поступке я был эгоистичен, вероятно столь же эгоистичен, как те церковные архивисты, согбенные и поседевшие от постоянной осторожности, что отказали Вам в праве прочесть пропылившиеся документы, которые могли лишь высветить истину.
К тому времени, как я обосновался в Калифорнии, между мной и матерью возникло отчуждение. Причиной этому послужили разговоры о моей жене, Розмари. Точнее, о ее религии. Среди многих белых пятен в знаниях моей матери было и то, что она сбрасывала со счетов католицизм и всех католиков считала суеверами. Я способен понять корни ее подозрительности, но что меня более всего раздражало, так это ее нежелание сделать исключение для красавицы Розмари. Говоря это, я подразумеваю склонность моей матери осуждать всю веру целиком, всех верующих, принадлежащих к этой конфессии, вместо того чтобы стремиться получше узнать Розмари, увидеть, какова она на самом деле. Сама же Розмари, должен я добавить, ничуть не помогала делу. Хотя она была мятежной католичкой, она тотчас распознала ханжество свекрови и ухватилась за первую же возможность ее разоружить. Розмари, всегда остроумно озорная, встала на защиту своей веры подобно Жанне д'Арк. После одной особенно неприятной ссоры я сказал ей — Розмари то есть: «Ты ведь не веришь даже вполовину того, о чем говоришь». Она признала, что я прав, что у нее есть много о чем поспорить с Папой. Но даже если так, она не может допустить, чтобы нападки моей матери пролетали без ответа. Вы сумеете понять мое положение. Я не первый, оказавшийся на ничейной земле между матерью и женой. Здесь не бывает безопасной позиции. И таким образом, мы отправились в Калифорнию, как сделали многие другие. Это случилось в 1890 году. Или в 1891-м? Надо бы посмотреть, проверить, чтобы говорить об этом более уверенно. Ах, какие холодные туманы начинают застилать мой мозг!
Формального отчуждения между мамой и мною не было, не было последнего обмена аргументами. Так довольно часто бывает. Мы уехали, и переписка становилась все более редкой, пока не свелась к кратким сообщениям время от времени. В 1908 году, когда мама опубликовала новое, исправленное и дополненное издание своей книги «Девятнадцатая жена», не возымевшее успеха, я вдруг осознал, что прошло уже десять лет с тех пор, как мы с нею переписывались. Я написал ей в Денвер, по ее последнему адресу. Письмо было переправлено на новый адрес в Эль-Пасо, затем вернулось ко мне. Я намеревался написать ей через ее издателя, но был обманут временем: я ведь полагал, что у меня в запасе все время на свете! Когда я наконец попытался связаться с ней годом позже, все было напрасно: оказалось, что издатель ушел из деловой жизни. Кажется, ее редактор — не помню его имени, оно начиналось на «Э» — сбежал в Южную Америку с каким-то уличным парнем и всеми деньгами компании, во всяком случае с теми, что там еще оставались. Мне говорили, что обновленное издание было настолько провальным, что чуть ли совсем не обанкротило эту маленькую фирму. Воровство редактора подтолкнуло издательство в пропасть. Все очень просто: не осталось никаких папок с делами, где можно было бы хоть что-то найти.
И снова время сыграло со мной свою шутку. Я отложил попытки связаться с матерью на несколько лет. Затем как-то, перед самым началом войны, я взялся за расспросы: я совершил поездку на Восток. Нанял детектива по имени Скотти Риверс; это была добрая душа, я уверен, что его характер сформировало какое-то ужасное оскорбление или дурное обращение с ним в довольно раннем возрасте. Через два месяца детектив Риверс принес мне пустую папку и возвратил гонорар. «След обрывается в тысяча девятьсот восьмом году. Она снимала домик в Аризоне, платила за аренду в конце года. В начале тысяча девятьсот девятого года хозяин явился за арендной платой, но обнаружил, что из дома уже выехали. Никто не мог сказать, когда она уехала или куда. После этого я не сумел ничего обнаружить — ни страхового полиса, ни медицинской карты, ни полицейских протоколов. Одна старушка-соседка говорит, ваша матушка поговаривала о путешествии на Восток, чтобы способствовать продаже своего обновленного мемуара, однако я увидел, что память эту старушку подводит и ее слова не могут быть приняты как факт. Кроме этого, боюсь, мне нечего вам сообщить, — сказал этот человек. — Я не возьму с вас денег».
Я спросил у Розмари: «Как может человек исчезнуть без следа?»
Но мама исчезла. Мы больше никогда ни о ней, ни от нее ничего не слышали.
Такой исход, несомненно, окрашивает мое восприятие собственной матери. До какой степени, в какие тона — должен признаться, я сказать не могу. Если бы Розмари была сейчас со мной, я оставил бы ей оценку моего горя. Надо было рассказать Вам все это раньше. Мне не хотелось, чтобы Вы думали обо мне как о человеке, который мыслит под влиянием сантиментов. Но полагаю, так оно и есть, потому что не проходит и дня, чтобы мне не хотелось поговорить о маме еще один, последний раз. Когда я думаю о ней сейчас, я чувствую себя почти как тот маленький мальчик, запертый в «Доме Пешехода» в ожидании ее возвращения.
Ум мой подсказывает мне, что здесь я должен бы закончить свое письмо, но сердце требует, чтобы я продолжал. Мне хотелось бы поделиться с Вами своими соображениями о судьбе моей матери. Не следует придавать им больше веса, чем вы могли бы придать теориям какого-нибудь конспиратора.
Прежде всего я постараюсь предложить три возможных исхода.
Первый: она умерла где-то естественной смертью, когда-то прославившаяся, но забытая всеми женщина, без гроша за душой, и покоится теперь в земле горшечника.[137] После провала второго издания книги «Девятнадцатая жена» и завершения маминой лекционной карьеры я не представляю себе, на какие средства она существовала. Никто больше не желал слушать историю ее жизни. Ее голос — глас Кассандры — не мог во второй раз возбудить чувства американцев. Гнев — это свеча, он обречен догорать. И следует признать, что мы живем уже в двадцатом веке, не в девятнадцатом. Столько всего уже миновало. И вот на мою оказавшуюся в страшной нужде маму нападает болезнь, быстрая и злокачественная или долгая и медленная, или неожиданное падение с лестницы, или, возможно, сверкающим солнечным днем ее переехал неосторожный автомобилист — откуда мне знать детали? Но что-то ее подкосило, и невозмутимый сосед нашел ей могилу.
Второй: ее убил враг, бросив ее останки стервятникам или как-то еще, столь же тщательно, от них избавившись. Такой сценарий, разумеется, ставит перед нами громаднейший вопрос: КТО? Ваши враги, я хочу сказать — противники Церкви Мормонов, заявили бы, что это кто-то тесно связанный со Святыми. Не могу себе такого представить. Ради чего? За былые нападки на Бригама Янга? Вряд ли. Более вероятно, как мне казалось бы — если бы этот мрачный сценарий соответствовал действительности, о чем свидетельств я не имею, — это могли бы быть отколовшиеся Святые, Первые, — по-моему, они так себя именуют. Те самые мужчины и женщины, что отщепились от Церкви и ушли в Ред-Крик и еще куда-то: эти многоженцы и параноики, увидев, что моя мать вновь возникла на американской сцене со вторым изданием «Девятнадцатой жены», ошибочно полагали, что она снова навлечет на них гнев закона, с тем чтобы покончить с их полилюбовными обычаями, как она сделала в отношении полигамных обычаев мормонов Солт-Лейка. Любой читатель детективных романов скажет Вам, что ключ к разгадке преступления лежит в понимании мотива. Вот, пожалуйста, Вам ключ, найденный в результате работы воображения и отсутствия фактов.
Третий: она жива сегодня, на девяносто шестом году, покачивается в удобном кресле-качалке где-то далеко отсюда. В этом сценарии она глядит в окно на неподвижный пейзаж — это, вне всякого сомнения, красная пустыня — и размышляет о том, чего ей удалось добиться. Ее день скоро придет, она это знает и ожидает его прихода с готовностью, окрашенной радостью ожидания.
Поменяйте детали, и один из этих исходов окажется более или менее соответствующим действительности. Который из них? Этого я не могу сказать с какой бы то ни было долей эмпирической точности. И хотя я никогда не узнаю правды, это не означает, что я перестал размышлять над загадкой ее последних дней. Я словно увлеченный, но не такой уж блестящий математик, который понимает, что ему никогда не решить определенное уравнение, и тем не менее все пытается его рассматривать, прощупывать, исследовать вплоть до своего последнего часа.