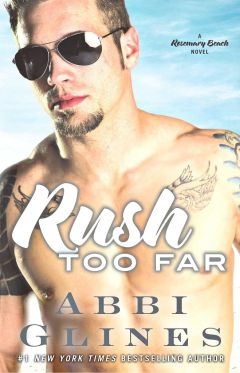…Корсетником Пейн перебывал в Тетфорде, Лондоне, Дувре, Сэндвиче; в Порсмуте, Брайтоне на юге, в Бате, Винчестере, Бристоле — он нигде не приживался. Какое бы новое ремесло ни испробовал, всякий раз возвращался к корсетам; ткал ли он, латал ли сапоги, резал ли по дереву, портняжничал, копал землю, пахал или сеял, он возвращался назад к корсетам, они были его судьбой. И когда жил в Сэндвиче, встретил Мэри Ламберт.
Пухленькая, разбитная, хорошенькая на свой лад, с ямочками на щеках, кареглазая, с округлыми руками, на несколько лет моложе его. Ему в то время шел двадцать второй год.
Она служила в прислугах и, когда он впервые увидел ее, покупала у мясника отбивные. Она была не из тех, кто выбирает на глаз; она щупала мясо, разминала его в руках и напоследок объявила:
— Ладно, только смотрите, без обмана. А то наложите один жир.
— Красота отбивные, — сказал мясник. — Лучше не бывает.
— Фью! Мне бы столько шиллингов, сколько раз я видала получше!
— Пожалте за дюжину.
— Ладно, вы жир-то срежьте.
Пейн в это время смотрел на нее во все глаза — причем она это знала, — смотрел и уже не помнил, для чего зашел в эту лавку, то ли мяса купить на ужин, то ли косточку для собаки, которую тогда держа, то ли зная в душе, что найдет здесь ее, и тогда, понятно, ничто на свете не в силах было свернуть его с пути. Она вышла, и он вышел следом, даже не слыша за собою вопрос мясника:
— Эй ты, а тебе чего?
Когда они прошли шагов двадцать, она повернулась к нему:
— А ну, иди своей дорогой.
Пейн стоял и молчал как дурак.
— Ступай, ступай! Я с такими не знаюсь.
— Я ничего плохого не делаю, — проговорил Пейн.
— Фью! — Она фыркнула и, повернувшись на каблуках, пошла дальше, и Пейн — за ней, стараясь идти с ней в ногу, моля отчаянным голосом:
— Скажите, как вас зовут, пожалуйста.
— Как зовут! Еще чего захотел!
— Дайте я помогу вам нести свертки.
— Без тебя справлюсь. Катись, слышал, и больше не лезь ко мне, а то дождешься, хозяину своему пожалуюсь.
Он ее снова увидел, иначе и быть не могло в таком маленьком городке, как Сэндвич. Разузнал о ней кое-что — выяснил, например, что ее зовут Мэри Ламберт. Она все понимала, конечно; он был не в силах держаться на отдаленье, ходил за нею по пятам, подстерегал ее, иной раз ухитрялся даже сказать ей несколько слов. Когда ей случалось улыбнуться ему, а так иногда бывало, он не помнил себя от восторга. Его очередной хозяин Джон Григ взял себе моду подтрунивать над ним, подмигивать, подталкивать локтем в бок.
— Эх, продувной ты малый, Том, да только нам все известно!
Он был отчаянно, дико влюблен и в ответ лишь беспомощно улыбался.
— Поди-ка, уже облапить ее успел, хе-хе? Надо будет тебе накинуть шиллинг.
Иногда она разрешала ему с ней прогуляться. Он стал покупать и подарки, так как заметил, что она мягче с ним обходится, если явиться с подношением. Как-то раз, в тихий вечер, он позвал ее пройтись с ним к реке.
— Фью! Там топко, грязно!
— Там красиво. И вы такая красивая…
— Чудак ты, право, чудак, мастер Пейн. Что, у тебя девчонки никогда, что ли, не было?
Он собрался с духом:
— Такой, чтобы я любил, не было.
Она пожала плечами, тряхнула головой.
— Мэри…
— Я в городе люблю гулять, — сказала она. — Девушке не годится далеко уходить с мужчиной.
— Мэри, я нравлюсь вам хоть немножко?
— Не знаю, все может быть.
— Мэри!
Но она уже затрещала про свое, про дом, в котором служила про хозяйку, горничную, повара — и про лакея, который прямо сходит по ней с ума.
— Вчера как чмокнет меня! — болтала она.
— Мэри, я вас люблю!
— Фью! — она улыбнулась.
Однажды он спросил, каково ей служить.
— А что, я всегда была у хороших господ, — сказала она.
— И тебе по душе быть прислугой?
Она ощетинилась.
— Все лучше, чем некоторые, кто, может, и рад бы пойти в услуженье, да кишка тонка.
— Я это не к тому, чтобы тебя обидеть, — оправдывался он. — Только мне неприятно думать, что ты — и вдруг прислуга.
— Думай не думай — мне-то что.
— Я же люблю тебя.
Она тряхнула головой.
— Неужели это совсем ничего не значит? Пойми ты, я тебя люблю, пойми, я умереть за тебя готов — и я не просто какой-то корсетник. Я другого хочу и сам хочу стать другим — мне целый мир нужен, чтоб отдать его тебе.
— Фью!
— Мне по силам дать тебе целый мир, — сказал он яростно.
Она подбоченилась и сделала реверанс.
— Мастер герцог, ваше высочество…
Он попытался поцеловать ее, и она со всего размаху залепила ему пощечину. Он стоял и глядел на нее, потирая щеку, невольно думая о лакее.
— Ишь, занесся, — бросила она резко. — Сам корсетник несчастный, а прислуга ему не ровня!
— Ты меня ненавидишь, да?
— Все может быть.
Он решил тогда, что больше даже не взглянет на нее, и недели две крепился, не встречаясь с нею, работал, бурча себе что-то под нос, извелся, потемнел.
— Да ты облапь ее покрепче, тюря, — советовал ему хозяин.
— Не лезьте вы ко мне, подите к черту.
— А-а. Ну, считай, что плакал твой шиллинг.
Мрачная подавленность прошла, сменилась приливом необычайной решимости. Он начнет свое собственное дело. Соблюдая бережливость, он уже скопил девятнадцать фунтов, и теперь распростился с Григом, снял старую мастерскую и водворился туда со своим инструментом и рабочим столом. Трудился с утра до поздней ночи, откладывая каждый заработанный грош, урезывая себя в еде, отказывался от малейших удовольствий, от вина, от книг, мечтая только о том дне, когда сможет позволить себе жениться на любимой женщине. И вот наступил день, когда он отыскал ее и спросил, пойдет ли она за него.
— Я знала, что ты вернешься, — сказала она самодовольно.
— Да, я иначе не мог.
— Тогда смотри, веди себя как полагается.
— Я хочу жениться на тебе, — отчаянным голосом сказал он.
— Фью!
— Я тебя люблю, я сделаю для тебя все на свете, ты будешь счастлива со мной…
— Болтай больше.
Но она начинала сдаваться; это было все же лучше, чем пойти за лакея, который, впрочем, с ней и не заговаривал о женитьбе; лучше, чем отвечать на заигрыванья мясника или сносить приставанья хозяина, который норовил при случае поймать ее в темной кладовке, — на мгновенье горящие, неровно посаженные глаза корсетника поманили ее, пленили, заронили в ее пустое сердечко неосознанные, туманные устремления. Она улыбнулась, присела в реверансе, и таким ликующим торжеством наполнилась душа Тома Пейна, что все поплыло у него перед глазами.
— Ладно уж, поцелуй меня, — сказала она.
Он держал ее в объятьях и знал, что больше нечего желать в этом мире.
— И помни, без глупостей насчет того, что я прислуга.
— Нет, нет, ты для меня все на свете! Какая мне разница, кем ты была. Теперь ты будешь женой Тома Пейна — и вот увидишь, тебе еще герцогини позавидуют!
— Болтай знай.
— Я разбогатею. Не вечно мне быть корсетником!
— Опять понесло… ну и чудной ты все же.
— Я все-таки хоть немножко нравлюсь тебе? — допытывался он с мольбой.
— А женишься? Смотри мне.
— Да, да, моя милая, любовь моя.
— Мастер ты на слова, — сказала она с восхищением.
— Слова — пустяки, что слова. У нас будет кое-что поважнее, будут дети.
Она поморщилась.
— Детей кормить надо. А нынче все дорожает.
— Только бы ты меня любила…
Она надула губы.
— Все может быть.
Ему потом приходило в голову, что при других обстоятельствах, в другой обстановке их жизнь, возможно, сложилась бы иначе. Она была не виновата, что она такая и не могла стать другой, он это знал, но от этого не делалось легче. Годы спустя он вспоминал, как пытался научить ее читать и писать, и она, не в силах усвоить простую мысль, через пятнадцать минут с детской яростью накидывалась на него. Иногда он был уверен, что она его ненавидит; порой, обнимая ее, чувствовал на короткий миг, что она его любит. Она была такая как есть, какой выковалась под молотом своего крохотного мира: племенным существом, опутанным тысячью табу. Подчас, осторожно продвигаясь шаг за шагом, отбрасывая по дороге шелуху, он чувствовал, что вот-вот заглянет в ее испуганную маленькую душу, и тогда она взрывалась негодованием:
— Фью! Задаешься, больно важный, больно много об себе понимаешь, что опять смеешься надо мной!
— Нет, Мэри, милая, не задаюсь…
— Скажите, герцог нашелся, а сам всего-то корсетник.
И он, кивнув, пожимал плечами и просил у нее прощения.
— Прислуга, видите, ему не по нраву, а уж я так-то была довольна, в хорошем доме, у господ, — не чета твоим оборванцам грамотеям из грязного свинушника.
Или же, распалясь окончательно, принималась рассказывать ему подробности насчет лакея, хозяина и прочих — выплескивала все это на него и наслаждалась, глядя, как его корежит и ломает.