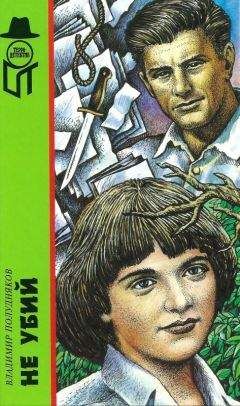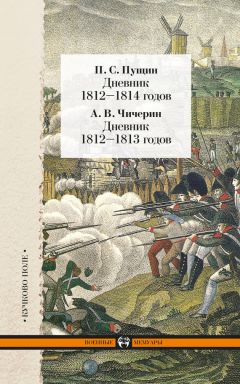Бауцен, апреля 27. Неприятель за нами по пятам. Вчера также Эльбу перешел; но арьергард наш пушками напор его задерживает. Канонада целый день к нам доносится. Через Сагайдачного просил я князя Волконского дать мне тоже «пороху понюхать». Обещал.
* * *
Апреля 30. Подошло еще знатное подкрепление — весь корпус Барклая-де-Толли от крепости Торна. Теперь нас здесь сила могучая — 100 тысяч: русских 70 тысяч и пруссаков 30 тысяч, да свыше 600 орудий.
Император австрийский желал бы помирить нашего государя со своим зятем Наполеоном. Переговоры о сем ведет хитроумный министр его Меттерних. А ныне к государю в замок Вуршен, где находится союзная главная квартира, от Наполеона парламентером генерал-адъютант его Коленкур прибыл. Но государь его даже не принял:
* * *
Мая 5.
— С самим Наполеоном у меня никакого сепаратного соглашения быть не может. Пускай обращается к нашему посреднику — императору Францу.
Такого афронта гордый корсиканец вряд ли потерпит, и генеральное сражение неминуемо. Позиция наша для обороны весьма выгодная: Бауцен лежит на крутом берегу реки Шпре и вдобавок крепостною стеною окружен с башнями, а в башнях — бойницы. На всяк случай городские ворота теперь еще бревнами заваливают, а меж бревнами тоже бойницы будут для стрелков. Милости просим!
* * *
Мая 8. Французы сюда, к Бауцену, вчера вплотную подошли, и у нашего авангарда с ними под вечер жаркое дело завязалось. Нынче зовут меня к генералу Чаликову:
— Вы, Пруденский, у князя Волконского под пули просились?
— Точно так.
— Поручик Муравьев с тремя уланами отправляется сейчас в горы на разведку и берет вас с собой.
И вот мы в горах. Хороши эти саксонские горы, что говорить, но нам с Муравьевым уж не до любования природой: издали неумолчный гул орудий доносится: «Бум! Бум! Бум!» С вершин да из-за леса высматриваем, нет ли где неприятеля или засады.
— Вернее бы всего, — говорит Муравьев, — одного хоть пленного захватить: от него бы все выпытали.
И ведь чего хочешь — того просишь: выезжаем из чаши к одинокому жилью, — мы с Муравьевым впереди, уланы за нами, — у ворот конь оседланный привязан.
— Смотрите, Николай Николаич, — говорю, — ведь седло-то на коне военное, французское.
— Верно, — говорит. — Вы берите коня, а я с седоком справлюсь.
Поскакали мы оба: я к коню, а он во двор. Там всадник французик, беды не чуя, на пороге сидит, ружье свое к стене прислонил, а сам трубочку покуривает. Налетел на него Муравьев, саблей плашмя его по спине огорошил:
— Сдавайтесь!
Тот с перепугу и сопротивляться не стал. И двинулись мы в обратный путь: я — с конем пленника в поводу, а самого пленника уланы пиками вперед погоняют. Муравьев его генералу Чаликову представил. Похвалил его генерал.
— О вас, — говорит, — будет доложено его величеству. А коня кто захватил?
— Да вот юнкер Пруденский.
— Так пускай и будет его призом.
Так-то вот, и пороху не понюхавши, приз получают! Сагайдачному новый конь мой зело приглянулся: куда казистее данного ему казенного.
— Давай, — говорит, — поменяемся на моего Буцефала?
— Розинанту свою, — говорю, — изволь, бери опять назад, а призового коня, прости уж, не отдам!
Битва при Бауцене. — Сабля пленного. — Отступление и перемирие. — Лейтенант in spe[1]
* * *
Лаубан, мая 10. Нет, Наполеона, заклятого врага рода человеческого, простым смертным, видно, не одолеть! А все ведь блестящую победу нам предвещало… И мне тоже счастье опять улыбнулось было…
Началось с вечера позавчера, 8-го числа; а вчера, в Николин день, государь выехал к войскам с графом Витгенштейном еще в 4 часа утра.
— Ребята! Вот ваш главнокомандующий. Поздравьте же его хорошенько с победой.
И громогласное «ура!» по всем линиям прокатилось, и пушки наши, как по сигналу, загрохотали, а им в ответ и неприятельские. Мимо государя проходили полки за полками — одни с музыкой, другие с песельниками, а государь их подбадривал на славную смерть своим царским словом:
— Молодцы! Смотрите, поработайте, когда очередь дойдет. Вперед вам спасибо!
Бой с часу на час разгорался и растянулся на несколько верст по окружающим Бауцен селениям и полям. Сам Бауцен оставался центральным пунктом, где пруссаки ожесточенно бились с прорывавшимися вперед французами.
Было два часа дня, когда государь, наскоро позавтракав, стоял опять со своим штабом на пригорке. Адъютанты и ординарцы летали взад и вперед с донесениями и приказаниями. Прискакал и Муравьев с донесением, весь в поту и дымной копоти. Государь выслушал его со своей ласковой улыбкой.
— Что, устал? Отдохни же теперь, подкрепись.
А под косогором, в ложбинке, небольшая кучка молодых штабных уж «подкреплялась». Я, как причисленный, держался в сторонке. Проходя к товарищам, Муравьев меня заметил.
— А вы что же, Пруденский? Уже закусили?
— Нет, — говорю, — с утра маковой росинки во рту не было…
— Так идемте же: самый адмиральский час.
И, подойдя со мной к закусывающим, говорит:
— Не найдется ли у вас, господа, маковой росинки для меня, да и для сего юноши?
— Как не найтись.
Налили нам по чарке; с непривычки у меня даже в голове зашумело.
— Однако, опалили же вас: чернее трубочиста! — говорили Муравьеву со смехом. — Ну, рассказывайте: где побывали? что видели?
— Да вот, — говорит, — какой случай. На обратном пути сюда вижу: взвод солдат вразброд отступает, офицера уже нет, а один солдатик с ружьем за камнем прикорнул. Я его по спине нагайкой:
— Ты чего прячешься? Вскочил на ноги.
— Виноват, ваше благородие…
— Давай сюда ружье!
Не дал, бросился вперед:
— В штыки, братцы! Ура!
И увлек ведь других: все повернули назад на французов с криком «ура!» и пошли в штыки. Пример храбрости, как и трусости, одинаково заразителен.
Только досказал это Муравьев, как бежит адъютант с запиской:
— Господа! Нужен ординарец к генералу Чаплицу. Первым Муравьев вскочил.
— Нет, нет, Муравьев! — говорит адъютант. — Вас государь не велел пока беспокоить.
А у меня от «маковой росинки» храбрости еще прибавилось.
— Пошлите меня! — говорю.
— Вас? Да ведь вы еще не ординарец…
— Я исполню все не хуже ординарца.
— А что ж, отчего бы его и не послать? — говорит Муравьев. — Вчера еще был со мной на разведке, славного коня себе у француза отбил.
— Коли так, то извольте, — сказал адъютант и отдал мне записку.
Занимал генерал Чаплиц весьма выгодную позицию в трех верстах на холме, в некой деревне Клике. Домчался я туда на своем призовом коне вихрем.
Прочел генерал записку, приказал поставить восемь орудий против плотины, проложенной внизу через топь, а затем казака кликнул:
— Вот царская записка. Сейчас поедешь с нею к генералу Грекову и скажешь, что орудия уже поставлены и прикрывают плотину.
— Генерал! — говорю. — Разрешите мне это сделать?
Взглянул он на меня; видит, что я нетерпением горю.
— Что ж, пожалуй, — говорит, — поезжайте вместе с казаком.
И понеслись мы с казаком под гору да через плотину.
Стоял генерал Греков со своими донцами лицом к лицу с неприятелем, но неприятель владел уже косогором и обстреливал сверху наших. Прочел и Греков царскую записку, выехал перед фронтом своих молодцов-донцов и зычным голосом им возвестил:
— Ребята! Велено нам взять у французов «языка», а потом за плотину к той деревне отойти. Возьмем же у них «языков», сколько Бог пошлет.
— Рады стараться! — грянули те в один голос, как из пушки.
Взял тут Греков у одного казака пику и стал во главе своих удальцов.
— Марш-марш!
С пикой наперевес соколом на косогор первым взлетел, и вся соколиная стая восьми полков казачьих за ним следом. Встретили их французы дружным залпом, но зарядить снова не успели, как уже донцы со своими пиками и шашками нагрянули. Пошла рукопашная… кровь так и льется… люди падают и уже не встают… У меня в глазах зарябило. Вижу, однако, что один француз-офицер поднимается. Я к нему и за шиворот:
— Сдавайтесь!
Сдался. Забрали казаки еще человек двадцать и двинулись мы с пленными обратно, как приказано было, через плотину к деревне Клике, к генералу Чаплину.
Вдруг навстречу нам, откуда ни возьмись, на своем Буцефале Сагайдачный.
— И ты, брат, тут? — говорит он мне. — Как сюда попал?
Рассказал я ему, а также об атаке донцов и о том, как взял я в плен французского офицера, который плелся пешком передо мною.