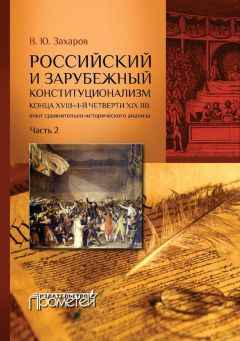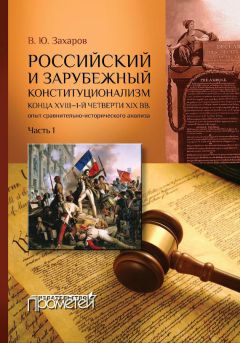— Монсеньор, мадам, меня прислал к вам наш возлюбленный и досточтимый епископ Григорий из вашего славного города Тура…
— Встань, — произнес высокий человек; голубые глаза, казалось, освещали его побуревшее от загара лицо воина. — Скажи, что тебе велели сказать…
— Ваше величество, я должен передать свиток в ваши собственные руки…
— Я не король, — перебил Готико гонца с мгновенной улыбкой, что тот заметил. — Сломай печать и читай. Королева тебя слушает…
Увидев, в какое замешательство пришел гонец, Брунхильда отделилась от группы придворных и, улыбаясь, приблизилась к нему. Гонец поспешно сунул руку за пазуху, где лежало письмо, но в тот же момент стражники угрожающе нацелили на него копья, а сеньор, которого он принял за короля, шагнул к нему, наполовину вынув меч из ножен.
— Мессир Готико, — вмешалась Брунхильда, не переставая улыбаться, — этого человека уже обыскали, я полагаю.
Легким движением руки она заставила отойти Готико и стражников и сделала гонцу знак подняться.
— Итак, наш дорогой и досточтимый Григорий присылает нам новости из Тура, — проговорила королева.
Гонец протянул ей свиток. Рука его больше не дрожала, но вид у него был по-прежнему ошеломленный.
— Город атакован, — прошептал он. — Всё в огне: окрестные деревни, фермы…. В Кайноне и Вобриду[12] не осталось виноградников — они все сожрали или просто растоптали…
Гонец говорил так тихо, что Брунхильда приблизилась, чтобы его расслышать. Готико прошептал что-то на ухо одному из стражников, затем кивком приказал свите королевы удалиться.
— Граф убит, и на его место они поставили Ледаста? — продолжал гонец. — Того самого, который правил городом во времена Карибера… Бандит и вор с отрезанным ухом… Монсеньору Григорию удалось их утихомирить, но они продолжают опустошать земли на юге…
— Кто «они»? — не выдержав, резко перебил гонца Готико. — Проклятие, о ком ты говоришь?
Гонец указал на свиток, который Брунхильда по-прежнему держала в руках, не разворачивая.
— Монсеньор епископ, я полагаю, обо всем написал, — сказал он, чуть пожимая плечами. — Это те же самые, что и в прошлый раз…
Королева сломала восковую печать, развернула пергамент и быстро прочла послание. Из всех епископов к Григорию Турскому она чувствовала особое расположение. Несколько месяцев назад он был посвящен в сан епископа — церемония проходила здесь, в Реймсе — благодаря ее поддержке. То, о чем он писал Брунхильде, она ни на миг не подвергла сомнению. Растоптанные пашни и виноградники, сожженные фермы, разграбленные монастыри, изнасилования, убийства…
— Это Теодебер, — сказала королева, дочитав послание до конца. — Он повсюду объявляет о том, что пришел отомстить за честь брата…
Полностью поглощенная содержанием письма, Брунхильда не заметила, как изменилось лицо Готико при звуке этого имени. Она не знала об этом, но некогда Теодебер, пробыв в течение года в заложниках при дворе Остразии, был отпущен лишь в обмен на торжественную клятву — никогда не поднимать оружия против Зигебера. Готико сопровождал его в обратный путь и во время поездки еще раз заставил повторить клятву, предупредив о том, что последует в случае ее нарушения. И недавнее нападение Теодебера было не только подлостью и вероломством — для Готико оно было еще и непростительным личным оскорблением.
— Григорий пишет, что армия Теодебера несколькими колоннами двинулась на юг, — продолжала королева. — Кажется, он собирается атаковать Пуатье… Кто у нас в Пуатье?
— Гондовальд, — ровным тоном ответил королевский воспитатель, приблизившись к Брунхильде. — Но этого недостаточно. С ним всего сотня человек. Зато Зигульф недалеко от него, в Бордо. Он может собрать войско и двинуться ему на помощь.
— Нужно предупредить короля.
— Я уже послал к нему стражника Он сейчас с Зигго, референдарием.
Брунхильда медленно опустила руку с пергаментом. Она не отводила взгляда от Готико, словно путник, обхвативший ствол дуба во время бури. Готико был ровесником Зигебера, но казался его старшим братом. От него, так же как и от короля, исходило ощущение силы и непоколебимого спокойствия. Готико кашлянул, улыбнулся и сделал шаг назад с таким очевидным смущением, что Брунхильда, наконец, спохватилась: оказывается, все это время она пристально его разглядывала.
— Нужно приготовить послание для Зигульфа, — пробормотал Готико, пятясь к двери. — Сегодня вечером я увижусь с королем…
Затем он повернулся, задев турского гонца, и поспешно вышел, оставив Брунхильду в некотором замешательстве. Чувствуя, как сильно колотится сердце и стучит кровь в висках под охватывающим голову золотым обручем, королева попыталась успокоиться. Почему она так смотрела на него?.. Она приложила руку к животу, который начинал округляться в третий раз, и медленно направилась, к амбразуре высокого окна.
# # #В те времена мы могли победить, полностью уничтожить этот проклятый род, довести войну до конца, до Руана, до самой постели Фредегонды — и, наконец, обрести покой…. Снова, уже в который раз, Хильперик поднял оружие против нас и снова был разбит и унижен. И снова, в который раз, Зигебер его простил. Это было, чересчур, великодушно… Я узнала эту новость в Метце, вскоре после рождения моей второй дочери, Хлодосинды. По какому-то дьявольскому совпадению Фредегонда тоже была беременна. Может, быть, поэтому Хильперик не осмелился идти до конца. Или просто из слабости. Из страха умереть…. Я догадываюсь, что он тогда испытывал, потому что мне вскоре предстоит такая же участь — завтра, через два-три дня или чуть позже…. Единственная разница между нами в том, что мне больше нечего терять — по вине этих псов, я уже лишилась всего…. Я потеряла мужа, я потеряла человека, которого любила, потеряла моих детей, а потом и внуков, моих верных сторонников, мои земли, мое королевство, мои богатства…. Более того, я утратила всякую надежду на счастливую жизнь — и все из-за великодушия Зигебера. Возможна ли более жестокая ирония высших сил? Бог пожелал, чтобы Зигебер был хорошим человеком, чтобы в его сердце было столько же любви и милосердия, сколько в сердце его брата — зависти и ненависти. Если бы Зигебер нашел в себе силу — или даже слабость — убить своего врага, а не помиловать его вопреки всеобщему желанию, наша жизнь была бы совершенно иной, и, может статься, он был бы рядом со мной даже сейчас, в этот самый момент… Но, Зигебер был хорошим человеком.
Я улыбаюсь сейчас, когда пишу эти строки. Я вспоминаю, с какой нежностью он склонялся над детьми, какое спокойствие исходило от него в любых обстоятельствах…. Я хотела бы любить его так же, как он любил меня.
Всю ночь бушевал ветер, но к утру стих. Хильперик проснулся среди такой давящей тишины, что ему потребовалось несколько мгновений, чтобы собраться с духом, узнать саманную[13] хижину, в которой он обитал последние три дня, и вспомнить, что он здесь делает. Со стоном потянувшись, он поднялся с убогой соломенной постели и резко встряхнул плащ, в который укутывался на ночь. Солома воняла и кишела паразитами. Вонял весь этот убогий поселок, вплоть до фруктового сада, где грудами лежали яблоки, предназначенные для приготовления сидра; эти фрукты и дали поселку его название — Авелу[14]. Поселок состоял всего лишь из нескольких стоявших среди деревьев хижин, при появлении войска брошенных жителями, слишком невежественными, чтобы знать, что это войско их собственного короля.
Далее, когда Хильперик откинул холщовый полог, заменявший в хижине дверь, и пригнулся, чтобы выйти, давящее ощущение смутной тревоги не оставило его. Что-то изменилось. Дело было не в том, что ветер внезапно стих, и не в том, что в воздухе висела ледяная морось, такая легкая, что казалась просто зимним туманом. Что-то еще…
Хильперик встретился взглядом с одним из стражников, стоявших у входа, и тут же отвернулся с глухим ворчанием — так он хотел придать самому себе немного уверенности. Выражение лица солдата не оставляло никаких сомнений: ему было страшно. Король сделал несколько шагов, чтобы оглядеть свой лагерь, простиравшийся вокруг, и почувствовал, как вся кровь отхлынула у него от сердца. Повсюду, перед каждой хижиной, каждой палаткой, люди стояли, глядя в одну сторону и прислушиваясь, неподвижные и молчаливые, похожие на статуи, словно далее переставшие дышать. Хильперик остановился, вглядываясь в горизонт, и тоже услышал. Только сейчас, почти в полной тишине, он понял, что его так насторожило сегодня утром. Вдалеке нарастал глухой гул, тяжелый и мрачный.
Тишина была недолгой. Через короткое время с другого конца лагеря донеслись крики и топот конских копыт — группа всадников отделилась от остальных и направлялась к нему. Когда они приблизились, Хильперик узнал во главе кавалькады своего коннетабля Хуппа. Тот соскочил на землю и подошел к Хильперику. Лицо коннетабля раскраснелось, дыхание было прерывистым.