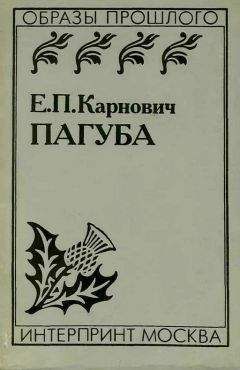Еще до ссылки графа Головкина с домом его сестры Ягужинской познакомился через своего близкого приятеля Ивана Лопухина Фридрих Бергер, произведенный Бог весть за какое отличие в поручики с зачислением опять в тот же стоявший в Петербурге кирасирский полк, в котором он находился до своего перевода в конную гвардию. Независимо от того, что Настенька крепко приглянулась ему, он рассчитывал и на то, что такой сильный в ту пору вельможа, каким был граф Головкин, принимавший постоянное участие в падчерице своей сестры, скоро выведет его в люди. С своей стороны, и Настенька, не гоняясь за блестящим супружеством, не прочь была выйти за молодого и статного офицера. Между Настенькой и Бергером начали мало-помалу установляться близкие, почти дружеские отношения.
Когда несчастье постигло семейство Головкиных, то Бергер на первых порах не уклонился от прежних хороших отношений с домом Анны Гавриловны Ягужинской, но при этом он имел в виду очень тонкие расчеты.
Первые месяцы нового царствования были очень тревожны. Неудовольствия против новых любимцев государыни — Лестока, Шувалова[53] и Разумовского[54] — и проявившийся ропот даже среди лейб-компанцев, которым, собственно, Елизавета была обязана своим восшествием на престол, наводили на мысль, что и ее власть не очень прочна. Эта мысль вызвала весьма последовательно другую мысль, а именно: что низверженная Елизаветой Брауншвейгская фамилия, имевшая всюду немало сторонников, может, пожалуй, занять свое прежнее место, и тогда все ее приверженцы, а между ними и один из главных — граф Михайла Головкин, так тяжко пострадавший за свою преданность правительнице, явятся не только в прежней, но и в еще большей силе.
«Надежда еще не потеряна, — думал честолюбивый немчик, — да, кроме того, хоть Настенька и не из богатых невест, но все же настолько есть у нее достатка, что на ее средства можно мне будет прожить безбедно весь век, и если повезет мне счастье, то уеду к себе в Лифляндию и заживу там важным господином назло тем, которые считают Бергеров людьми ничтожными».
Еще при Петре Великом строитель Ладожского канала, знаменитый в свое время инженер и прославившийся потом своими воинскими подвигами как начальствовавший над русскими войсками Бурхард Миних, немец, родом из Ольденбурга, построил на том месте, где ныне стоит лютеранская церковь во имя апостолов Петра и Павла, небольшую и, как кажется, деревянную лютеранскую кирку. Он считался ее ктитором и был самым почетным лицом этого лютеранского прихода, о делах и пользах которого он радел с большим усердием. Желая дать своим прихожанам рассудительного и честного пастора, Миних выписал откуда-то из Германии известного по своей благочестивой христианской жизни пастора Грофта.
В один из воскресных весенних дней 1742 года пастор Грофт произнес в этой церкви, по принятому им обыкновению, обширное поучительное слово. Внушая своим слушателям и слушательницам разные христианские добродетели, он в заключение очень сдержанно намекнул на то, что совпадающее с этим воскресным днем число праздновалось прежде в приходе с особенною торжественностью в честь одного из прихожан, которого, к сожалению, ныне нет среди молящихся.
Все присутствовавшие в кирке немцы и немки были чрезвычайно растроганы таким заключением пасторской проповеди. Они вспомнили, что на это число приходился день рождения фельдмаршала Миниха, томившегося теперь в печальном изгнании в отдаленном Пелыме. Многим как живой представился этот приснопамятный прихожанин — высокий, бодрый, с воинственной осанкой, начавший уже стариться мужчина, величавая и повелительная наружность которого обращала на себя внимание каждого, кто его видел. Припомнилось также всем, как этот благочестивый прихожанин чисто лютеранского закала, сидя на своем почетном месте, под бархатным балдахином, распевал зычным голосом на всю церковь псалмы. У многих расчувствовавшихся немцев, а в особенности у немок, навернулись на глазах слезы при этих грустных воспоминаниях, а одна старая немка-булочница, влюбленная без души в бывшего фельдмаршала, расплакалась навзрыд, и тщетно утешал ее муж, что герр граф фон Миних живет очень хорошо в Пелыме, что русские, наверно, без него никак не обойдутся и что если не в то, то в одно из ближайших воскресений она снова увидит господина фельдмаршала сидящим на своем обычном месте и услышит его голос.
Когда Грофт окончил свою речь и спустился с кафедры, многие из прихожан стали подходить к нему, дружески и почтительно пожимая ему руку и благодаря его в лестных выражениях за прекрасную и трогательную проповедь. Пастор, чрезвычайно довольный тем впечатлением, какое он произвел на свою паству, отправился спокойно домой, рассуждая на пути сам с собою о непрочности всего земного и заготовляя в голове новую проповедь на эту благодарную тему.
Во время богослужения посторонний зритель, пришедший в кирку не для молитвы, а только для наблюдений, непременно заметил бы среди многочисленного и довольно пестрого собрания богомольцев двух выдававшихся лиц. Один из них, худощавый старик, сидел на одной из задних лавок, уткнув свой нос в молитвенник, и ни разу не только не оборотил своей головы в ту или другую сторону, но даже не отвел глаз от листов своего старого «гезангбуха». Старчески разбитым, но, как было заметно, когда-то мощным голосом он с замечательной верностью слуха подпевал под гремевший в церкви орган. В старике этом нетрудно было узнать майора Ульриха Шнопкопфа, несмотря на происшедшую в нем перемену, так как в короткое время он постарел на целый десяток лет, осунулся чрезвычайно, а спина его сделалась сильно сутуловатой. И неудивительно, что так ослаб еще незадолго перед тем столь молодцеватый майор. В короткое время он испытал много горя: сперва перевели его в далекую команду, потом отняли ее у него, а вскоре за тем прислали «абшид», то есть отставку, в которой, по обычаю того времени, он был рекомендован всем «высоким потентатам» как честный и храбрый офицер, с добавлением, что он может быть принят на службу всюду, «где он, по состоянию своему, счастия искать пожелает».
Но бедного майора, которому уже поздно было искать счастья, огорчал не столько «абшид», присланный из военной коллегии без всякой с его стороны просьбы, сколько внесение в означенный патент, что он, майор Шнопкопф, увольняется от службы за непригодностью к ней «по дряхлости лет». Также сильно огорчало его и неупоминание о ранах, полученных им при Нарве и при Полтаве, о которых, конечно, вовсе некстати было упоминать русскому военному начальству как о воинских отличиях. При чтении выданного Шнопкопфу патента можно было предполагать, что он был захвачен, пожалуй, как беглец с поля битвы. Но всего более огорчало его то, что он, как «абшидованный», то есть по-нынешнему, отставной, не имел уже права носить свой огромный палаш, с которым он так свыкся. Теперь майор, к крайнему его прискорбию, был уже совершенно устранен от всякого участия по внедрению дисциплины среди победоносного православного воинства. Не мог уже он, идя без палаша, остановить на улице нижнего чина и распечь его на ломаном русском языке, с угрозою тем или другим артикулом «Воинского Устава», который теперь ему приходилось забыть навеки как знание, ни к чему уже не пригодное.
Через своего приятеля, служившего в военной коллегии по секретной части, майор узнал, что причиной всех его злосчастий был поступивший прямо в эту коллегию неграмотно написанный по-русски донос. Подробности этого доноса, то есть встреча доносчика с майором на улице в то время, когда он, доноситель, шел с одним из своих товарищей, и затем изложение обстоятельств, в сущности сходных с действительностью, но только с добавочными прикрасами и с приданием иного смысла разговору майора с молодым Лопухиным, явно показали, что доносчиком мог быть только Фридрих Бергер, пожелавший таким гнусным поступком обратить на себя внимание военного начальства.
Слушая рассказ о доносе, Шнопкопф выходил из себя и даже бесновался. Сперва он хотел вызвать Бергера на поединок, но потом сообразил, что с подлецами такой способ расправы не только непозволителен, но и признается унизительным по господствующим понятиям о чести. Затем майор хотел заколоть или застрелить Бергера, как презренного негодяя, но опять сообразил, что нападение на кого-либо с оружием без предварительного объяснения о причине, подавшей к тому повод, составляет своего рода низкий поступок, на который никогда не может решиться прямодушный солдат. Таким образом, оказывалось, что Бергер, хотя и несомненный доносчик, был неуязвим со стороны людей, чутко понимавших правила чести. Открыть же Бергеру причину вызова на поединок или неожиданного на него нападения было для майора невозможно, так как это повлекло бы к погибели того из его доброжелателей, который сообщил майору о поступившем на него доносе.