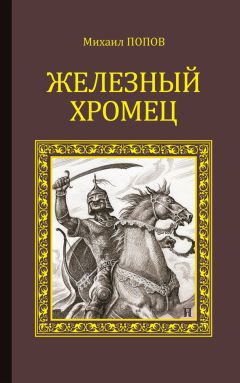Ознакомительная версия.
Гордые собой и своими смелыми действиями, стражники потащили его в зиндан, что находился возле дома базарного смотрителя. Ибрагим уже находился там. Вид у него был не самый лучший. Лицо расцарапано, из носа сочится кровь. Глаза грустные. Захир, напротив, чувствовал огромное облегчение – он считал, что самое страшное позади. Им удалось выкрутиться.
По таким мелким делам, как базарное воровство, с судом не тянули.
Обычно наутро городской кади[25] требовал к себе нарушителей. А городской палач уже пил чай в заднем помещении.
Захир боялся только одного: что сейчас в базарный зиндан явятся таинственные люди, следившие за ними весь день, и именем правителя уведут их в другой застенок, откуда не унесешь ноги, оставив на память всего лишь кисть левой руки.
Когда наступил вечер и стало понятно, что бояться нечего, Захир пришел в прекрасное расположение духа. Он даже пытался развлечь своего товарища, ибо тот был необъяснимо мрачен и замкнут. «О чем грустить? – не понимал товарища Тимуров нукер. – Пусть отрубят руку. Но ведь мы избавлены от лап настоящих палачей, от мастеров пыточного искусства, и, стало быть, нет опасности, что мы можем впасть в предательство. Разве жизнь наших друзей и великодушных господ не стоит каких-нибудь пяти пальцев?»
Ибрагим не отвечал на эти слова. Наверно, потому, что его сильно избили, когда ловили, решил Захир и стал подгребать под себя гнилую солому, чтобы улечься спать.
И сны ему снились светлые.
Наутро все произошло так, как он себе и представлял. Криворотый кади, похожий на облезшего стервятника, сидя на каменном возвышении в окружении многочисленных засаленных подушек, выслушал менялу, одного из стражников, спросил у преступника, признает ли тот себя виновным, и объявил приговор. В соответствии с повелениями пророка, законами Хорезма и по природной справедливости, отсечь похитителю чужого имущества левую руку по запястье. Если означенный будет замечен в повторном преступлении подобного рода, отсечь руку, не щадя, по локоть.
Захира вывели на тюремный двор, к нему приблизился размякший от чая палач. Показал, куда и как положить ладонь, сверкнул начищенный металл…
Весело засмеялись толкущиеся на тюремном дворе стражники. Одни делали ставки за то, что этот степняк рухнет наземь после экзекуции, другие делали ставки против, утверждая, что он мужчина крепкий и только прижигание может свалить его с ног.
Рядом с плахой на небольшом огне дымился казан с древесной смолой. Палач подошел к нему, вытащил из него деревянную палку и подозвал к себе только что наказанного. Тот, неуверенно переступая ногами, приблизился. Боли он не чувствовал. Его больше занимал вид валяющейся на плахе кисти, чем вид крови, хлещущей из обрубка.
Палач уверенным движением опытного врача прижег ему кровоточащую рану, и только тогда Захир почувствовал страшную, оглушающую боль. В голове его помутилось, он зашатался, но на ногах устоял.
– Ну, иди-иди, – спокойно, почти по-отечески сказал ему палач, кивая в сторону открытых ворот. И Тимуров нукер, пошатываясь, пошел, оставляя ни с чем всех споривших стражников – и тех, кто был за него, и тех, кто был против.
– Если Ибрагим не появится завтра, нам надо сниматься и уходить, – сказал Тимур. Они с Хуссейном сидели в шатре и без всякого удовольствия пили кумыс.
– Ты хочешь сказать, что мой нукер предал нас?!
– Я всего лишь рассуждаю. Их судили в один день, стало быть, Ибрагиму тоже отсекли руку. Всего лишь руку. Захир ждал его в караван-сарае два дня. Ибрагим не появился. Этому может быть два объяснения: или он не выдержал наказания и умер, или…
Хуссейн нахмурил свои густые брови.
– Я знаю Ибрагима с детства, он был самым верным моим нукером.
Тимур перевернул свою чашу дном вверх, показывая этим, что больше кумыса он не хочет.
– Только из уважения к тебе, брат, я не отдал приказа сниматься еще вчера.
За стенами шатра послышался топот копыт – кто-то на полном скаку мчался по становищу. «Братья» молча посмотрели в глаза друг другу.
Закрывавшая вход занавесь была отброшена. Вбежавший тяжело дышал. Это был Хандал, сегодня был его день командовать в северном дозоре.
– Говори! – велел Тимур.
– Конница. Со стороны Хивы.
– Сколько?
– Три сотни. Или четыре.
Краем глаза Тимур увидел, что Хуссейн пристыженно опустил голову. Кажется, теперь уже не оставалось сомнения в том, кто виноват в происходящем, но правителю Балха было все же трудно смириться с мыслью, что наивернейший его слуга оказался подлой собакой. Он схватился за последний аргумент:
– Но тогда объясни мне, брат, почему Ибрагим не выдал им Захира? Ведь он знал, где тот может скрываться!
Тимур встал, поправляя пояс и висящую на нем саблю.
– Пожалел. Они сдружились, видимо, за эти две луны. По-настоящему. Как мы с тобой.
Хуссейн, кажется, хотел что-то ответить, но времени для разговоров не было.
Текель-багатур был дальним родственником Токлуг Тимура и, как выяснилось, верным помощником Ильяс-Ходжи. Чтобы как следует услужить сидящему в Самарканде наместнику Мавераннахра, он не ограничился посылкой ему известия о месте пребывания его врагов, а решил собственноручно притащить их в его дворец на аркане.
Его воины расположились в нескольких сотнях шагов от становища эмиров и с чувством превосходства и приятными предвкушениями посматривали в его сторону. Они знали, что эта добыча от них не уйдет, знали, что в стоящих перед ними кибитках есть женщины. Возможна и другая добыча – ходили слухи, что при бегстве из Балха Хуссейн вывез большую часть казны.
В становище полным ходом шли приготовления к сражению. Ни о каких переговорах не могло идти и речи. Если бы племянник правителя Хорезма Мунке-багатур имел возможность понаблюдать за этими приготовлениями, он, пожалуй, удивился бы. Большинство людей Тимура и Хуссейна занимались тем, что доставали воду из колодца. Объяснение тут было простое. Сразу после того, как явился из Хивы обезрученный Захир, Тимур велел все кибитки поставить в один большой круг и связать между собой веревками. Это была предосторожность на случай неожиданного нападения. Такая тактика не являлась открытием молодого полководца, великая степь издавна воевала таким образом, и даже некоторые европейские армии впоследствии применяли ее. Достаточно назвать таборитов[26].
Естественно, нападавшие искали пути для того, чтобы преодолеть стены искусственной крепости. И наиболее действенным оружием считался огонь. Тимур, для того чтобы не тушить объятые пламенем повозки, велел облить их водой заранее, чтобы сделать их недоступными для огненных стрел.
Воины прекрасно понимали замысел полководца и поэтому носились с кожаными ведрами по становищу как угорелые.
Время у них было. Мунке-багатур не мог атаковать сразу, нужно было дать отдохнуть лошадям, выдержавшим поход в двенадцать фарасангов.
Тимур и Хуссейн сидели на стоящих рядом лошадях и в просвет между кибитками наблюдали за противником.
– Если бы Аллах шепнул мне на ухо, что среди этих чагатаев скрывается Ибрагим, клянусь тем, кто бы мне это шепнул, я бы дрался с ними впятеро злее!
Тимур ничего не ответил на страстное замечание названого брата. Он не любил красивых слов и цветистых выражений, он думал не теми понятиями, которые можно сыскать в свитке поэта.
Прискакал Мансур и доложил: все уже мокрое и кибитки более напоминают лодки, чем что-либо другое.
– Лейте, лейте, – прикрикнул Хуссейн, – лучше сражаться посреди болота, чем посреди пожарища.
Тимур осторожно положил ему руку на плечо, успокаивая горячность военачальника:
– Если вылить воды слишком много, наши лошади потонут в грязи, ничего нет страшнее, поверь.
Хуссейн отвернулся. Мысль была слишком очевидной, но ему не хотелось проигрывать спор в присутствии этого самоуверенного нукера.
– Пошли! – послышались крики и справа и слева.
Кожаные ведра полетели наземь, воины бросились к оставленным в специально подобранных местах лукам.
Тимур снял с колен свой железный остроконечный сеистанский шлем и покрыл им голову.
Как и предполагалось, первая волна несла на струнах своих луков дымящиеся стрелы, отчего над скачущими поднялась темная дымка. Вместе с этой дымкой первую полусотню сопровождал характерный визг, всегда сопутствующий атаке степной конницы. Сердца русичей, мадьяров, грузин, иранцев, китайцев обливались нестерпимым холодом, стоило ему повиснуть в воздухе. Люди Тимура и Хуссейна и сами могли кричать подобным образом, поэтому остались совершенно спокойны.
Не доходя примерно сотни шагов до колесной крепости, чагатаи по команде сотника сделали дымящийся залп. Через мгновение затрещали деревянные борта кибиток, глухо вздрагивали шкуры, которыми были обтянуты верхние каркасы. Ни одна стрела не пропала даром. Монгольские воины, у кого бы на службе они ни находились, стрелять из лука умели как никто в мире.
Ознакомительная версия.