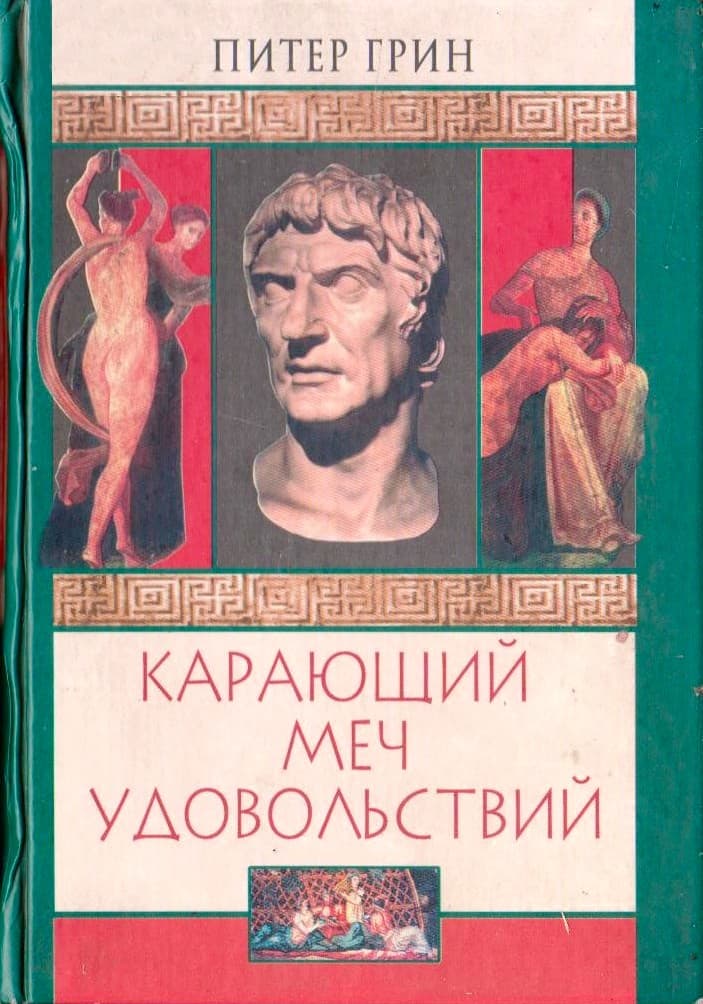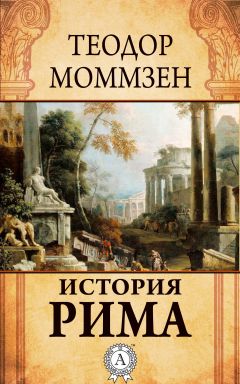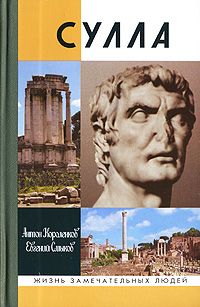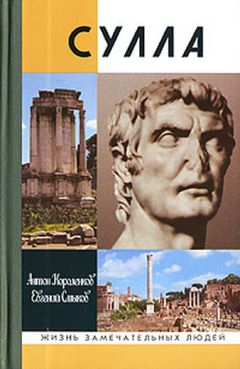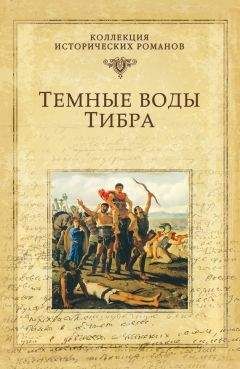не было вопросом.
Женщина подбадривающе улыбнулась:
— Присаживайся, Луций. Выпей вина.
Она наполнила чашу и пододвинула ее ко мне.
Я оказался в мире, который едва начал понимать. Меня приняли как нечто само собой разумеющееся, предложили вина, женщина, которую я никогда прежде не видел, называет меня по имени. Я нерешительно уселся на скамью к ним лицом, словно заключенный перед судьями, и отхлебнул из чаши. Женщина указала на рыжеволосого актера, который смотрел на меня с живым интересом, и произнесла:
— Меня зовут Никопола. А это — Метробий.
— Я видел, как ты играешь, — сказал я ему.
Это было правдой, но до этого момента я его не узнавал. Вне сцены он казался старше, менее манерным и отстраненным.
Женщина по имени Никопола улыбнулась:
— Пять лет назад я в течение недели ходила смотреть его каждый день. После этого пригласила его на ужин. Вечер обманул мои ожидания, но с тех пор мы стали добрыми друзьями.
Изумление было написано на моем лице. Никопола довольно рассмеялась, и ее большие темные глаза вспыхнули. Катул снова принял свою отрешенную героическую позу, но наблюдал за моим смущением со злорадством. Человек в маске вперил свой немигающий взгляд в мое лицо. Он сидел справа от меня, с обезображенной стороны моего лица.
— Ты интересуешься театром, Луций? — спросила Никопола.
Я кивнул. В этот момент мне почему-то трудно было ответить.
— Понятно.
Теперь и она уставилась на меня с явным любопытством. Последовало короткое молчание.
Мужчина в маске сказал:
— Я еще не представился. Мое имя — Росций. Квинт Росций [38].
Голос его был печальным и спокойным, совершенно не подходящим тому, кого уже называли великим комическим актером.
Теперь я почти не мог вынести смущения — я чувствовал себя обнаженным, выставленным напоказ со своим физическим недостатком перед этими странными людьми, которые принимали все и которых ничто не могло удивить. Однако в некотором смысле я в первый раз пришел к согласию с самим собой.
Не сводя с меня глаз, Росций одним быстрым движением сорвал с себя маску и положил ее на стол. Я увидел высокий лоб под густыми черными кудрями, подвижный смешливый рот, высокие скулы. Это было запоминающееся, даже благородное лицо. Но насмешкой Судьбы все эти черты были обезображены таким ужасным косоглазием, что глаза его чуть ли не сходились вместе у носа, что придавало ему вид глупого, беспомощного, окосевшего от вина идиота. Он улыбнулся мне. И улыбка с трудом пробилась сквозь его живую маску, которая была гораздо ужаснее той, что он только что снял.
— У нас с тобой много общего, у тебя и у меня, — сказал Росций, и его голос был таким же ласковым, как и прежде.
Так мне открылась новая жизнь, или, скорее, в некотором смысле я впервые начал жить по-настоящему. Оглядываясь назад, ясно вижу, что мотивы, которые привели меня в компанию актеров и им подобных — хотя вкуса к этому я никогда не терял, — происходили непосредственно из неприятия меня людьми одного со мною сословия или, точнее, сословия, к которому я принадлежал по праву рождения.
Здесь, в этом искусственном мирке внутри окружающего мира, ни одна из нормальных санкций не могла быть использована. Однако он ни в коей мере не был открытым обществом. Многие, что были богаче и более выдающимися, нежели я, хотя и льстили актерам в лицо и выступали в качестве покровителей, никогда не пересекали ту невидимую границу признания. И наоборот, когда актер делал попытку разорвать этот магический круг, подняться в том самом обществе, которое аплодировало, но не признавало его, он терял свою власть и беспристрастный взгляд.
Три года назад я пожаловал Росцию золотое кольцо патрицианства и очень сомневался в мудрости своего поступка. Тогда же последовало предложение, что он может даже стать сенатором, если только никогда больше не появится на сцене. Я благодарен глупцу, который установил такое жесткое условие. Оно привело Росция в чувство, вероятно, он и умрет на сцене, играя одну из своих любимых ролей. Он вознагражден состоянием, и это справедливо. Актер должен быть выше общественных амбиций.
Актер презирает своих зрителей так же, как они пренебрегают им, он рисует для них анатомию их неосознанных глупостей, и они аплодируют ему за то, что он приписывает себе их наиболее позорные и нелепые поступки и свойства. Надевая маску, он теряет себя, потому что становится одновременно и судьей и священником, безличным и отстраненным. Поэтому неудивительно, что мир актера чужд и самодостаточен, что эти вольноотпущенники, греки и отбросы общества, связаны вместе определенной моделью поведения, которая ничем не обязана их патронам или, конечно, городу или стране, в которой им случается осесть. Их единственные корни — в них самих, их единственная мудрость — их передающееся из рода в род знание чванливых человеческих притязаний, амбиций, желаний, страхов и слабостей. Сама безответственность их поведения, их шутки, понятные только им самим, абсурдная враждебность, циничное самолюбование и утонченное выставление себя напоказ являются сами по себе молчаливой критикой мира, который они постоянно представляют и обнажают, но к которому не питают никакой лояльности. Однако они никогда не забывают о собственной уязвимости: любой магистрат — хотя он редко пользуется подобной привилегией — все-таки может по своему желанию их выпороть. Это — справедливый закон.
Для меня самым большим соблазном этого мира была присущая ему способность видеть общество, к которому я принадлежал, со стороны, судить его, возможно, цинично, но без предрассудков моего сословия. На бесконечных обедах и увеселительных вечеринках я слушал театральные сплетни об общественных делах и государственных деятелях, эти уничижительные подробности научили меня сначала тому, что сексуальные наклонности человека или его личные слабости могут значительно повлиять на его поведение в должности магистрата. Это был полезный урок, и я никогда его не забывал.
Хитроумные советы моих друзей из театральной среды не раз спасали мне жизнь, но ведь самосохранение — в их среде природный инстинкт. Их нелегко соблазнить расхожими сантиментами или непринужденными, запоминающимися фразами. Актеры выслушают сентиментальные излияния за вином или в постели, и они говорят им больше, чем приглаженная речь, произнесенная в сенатской курии двенадцать часов спустя. Диктатор, сенат, обыватели, толпа, мир или проскрипции, цензорство или мятеж — им все равно. Пьеса изменяется в соответствии с аудиторией, время от времени она может быть отменена в пользу медвежьей травли или гладиаторских боев, но каждому мастеру необходимы моменты релаксации и иллюзии. Актер, если он знает свою роль, переживает многочисленные катаклизмы, которые боги и люди могут припасти для страдающего человечества.