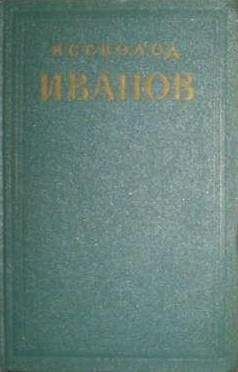— Выдохлась корка, никакого запаху не дает, — сказала Маруся, разводя беспомощно руками.
Несколько поодаль, у печи, сидели махновские «батьки» — Чередняк, Правда, Каретник. Среди них сидела Вера Николаевна. Когда Махно подходил к «батькам», он бросал взгляд на Веру Николаевну и криво улыбался.
— А холодно, газета? — резко повернувшись к Штраубу, спросил Махно. — Где Аршинов?
— Сейчас придет.
— Слушай, газета! — сказал Махно, принимая рюмку от Маруси. Он выпил, поморщился и, видимо, не забывая о лимоне, сказал: — А в Мадриде лимоны есть? Ты в Мадриде бывал, газета? Большой город, красивый, а? Вот бы зажечь. Ха! Екатеринослав я жег, Мелитополь жег, Ростов жег, — что мне Мадрид или Париж не зажечь?
— Париж или Мадрид можно, а вот Нью-Йорк нельзя, — сказал, входя, Аршинов. — Здравствуйте, селяне. Здравствуй, батька. Почему, спросишь, нельзя Нью — Йорк?.. Ну, люди здесь свои, скажу. Ривелен к нам едет. Сам Ривелен! Нью-йоркский анархистский батька. Он не позволит нам Нью-Йорк сжечь, ха-ха!..
— Ну, едет, и черт с ним, — сказал Махно. — А ты с чем пришел? Какие предложения? Чего вы все молчите?! Я знаю, что вы сговорились!
Аршинов улыбнулся:
— Ну, в моем предложении мы не сговорились. Пришло время, батька, мобилизовать у селян еще по одному коню со двора.
— Не можно, — сказал батько Правда. — Этого никак не можно: селяне на нас рассердятся, начнут Пархоменке помогать… нет, больше коней у селян брать нельзя.
Чередняк проговорил:
— Чего нью-йоркский батька везет? Коней бы вез!
Аршинов, привыкший к манере «батьков», продолжал:
— Артиллерия заграничная, хорошая, а без толка вязнет в снегу, пропадает… вот и сейчас отстала. Коней не хватает, батька! Надо конскую мобилизацию объявлять.
— Уходи, — сказал Махно. — Надоел. Кони, кони! Ненавижу!
— Кого, батька?
— Спать не могу. Водка не пьянит. Никому не верю. Куда ни пойду, он везде меня — рукой за горло! Кто? Пархоменко! — Он подсел к «батькам», рядом с Верой Николаевной. Маруся поднесла ему новую рюмку водки. Махно обнял Веру Николаевну за талию. Она отодвинулась.
— Я — замужняя, батька.
— Можно развести.
— Каким образом?
— Не образом, а обрезом.
— Глупо!
— Паскудная зима… — сказал среди общего молчания батько Чередняк. — То снег, то слякость… а он все-таки за нами скаче…
Батько Правда спросил:
— Кто?
— Да он же!.. Кони у него добрые… а нам у селян никак нельзя коней брать… выдадут.
— Ненавижу! — крикнул Махно. И, помолчав, с другим выражением лица, еще более злым и приглядывающимся, продолжал:
— Слушай, газета! Поедешь к Быкову. Возьми жену. Она у тебя ловкая. Приедешь, тебе скажут — как делать.
— А что делать?
Хлопцы мои устали скакать. Коня я не могу мобилизовывать у селян. Понял? Три наших отряда разбиты, четвертый, лучший, кавалерийский сдался без боя. Пархоменко тебе поручаю убрать. Понял?.. Ты все делаешь плохо, я тобой недоволен, — с Пархоменкой ты должен сделать «хорошо», Быков тебе поможет. Понял?
— Но ты меня не слушаешь, батька, — сказал Штрауб с обидой, — я тебе предлагал наступление, когда большевики были заняты Врангелем, — ты меня не послушал. Теперь дождались, когда Пархоменко собрал силы…
— Молчи. Надоел. Уходи.
Штрауб повернулся. Махно ему крикнул вслед:
— А что этот Ривелен, лимону не привезет, часом?
— Получите и лимоны.
— Свежие?
— Свежие, — весь дрожа, сказал Штрауб.
Штрауб согласился ехать по нескольким причинам.
Первая — ему хотелось подружиться с Махно, отбросить ту опасность, которая ему сейчас несомненно грозила, потому что Махно не нужен был шпион, не помогающий ему. Хотелось доказать, что действия Штрауба на польском фронте — или, вернее, провал всех действий — зависели от плохого стечения обстоятельств, а вовсе не от отсутствия у него способностей. Хотелось также встретиться с Быковым, от которого он уже месяца три или четыре не мог получить извещений. И вторая — хотелось уехать и потому, что его жизнь с Верой Николаевной совершенно испортилась.
Кроме того, и физически он себя чувствовал отвратительно. Все время ныла печень, и во рту была какая-то горечь. Часто он просыпался с такой головной болью, словно ему сорвали кожу с черепа. И хотя понимал, что в городе ему придется скрываться и трепетать и, может быть, исполнять крайне опасные поручения; все же он с удовольствием думал о том, что увидит город, электричество, мирно шагающих безоружных людей, услышит смех, не пьяно-разгульный, как здесь, а нормальный человеческий смех, прочтет какую-нибудь газету… Все-таки хорошо в городе!
Придя в хату, где стояла походная типография, он внимательно посмотрел на Веру Николаевну. Она села штопать чулок. Лицо у нее было неподвижное, скучающее. Кассы стояли на столе, прикрытые влажным войлоком, и Штрауб подумал: уже можно не ругать хлопца за то, что не стрясли с войлока снег, а если войлок заледенеет на улице, то и черт с ним. Штрауб снял шапку и повторил вслух свою мысль:
— Все-таки, Вера, хорошо в городе!
— Как говорится, от скуки и земля вертится, — сказала сухо Вера Николаевна, давая этим понять, что даже его восклицания, глупые и однообразные, со скуки ей кажутся достойными внимания.
В иное время Штрауба это больно кольнуло бы, но сейчас он улыбнулся и воскликнул:
— Совершенно верно!
Вера Николаевна ничего не ответила. Только иголка быстрее заходила в ее пальцах:
— Вернись к Махно сейчас же, пусть велит выдать тебе карандашей, ученических тетрадей, чернил. Лучше всего и безопасней пробраться учителями. Учителей они и любят и умиляются перед ними.
Щуря глаза, она дотронулась до его лица кончиками длинных своих ногтей и тотчас же с видимым омерзением отдернула руку. Голос у нее был и умоляющий, но такой, каким умоляют в последний раз, и в то же время презрительный.
— Соображайте обстановку, голубчик.
Штрауб понимал, что она рассуждает правильно. Он послушно вышел и направился к Махно.
Два дня назад на площади села, против школы, похоронили двух убитых махновцами работников сельсовета: председателя и секретаря. А могилу уже занесло пушистым, как пена, снегом, и тень тополя лежит на ней ало-голубая и такая крепкая и ясная, как будто она лежала здесь сотни лет. Поодаль возвышается братская могила, возникшая здесь летом: к высокому столбу прибита доска с надписью: «Погибли за социализм», и позавчера, когда хоронили председателя и секретаря, над доской приделали маленький, покрашенный охрой навесик, чтобы надпись подольше держалась.
Пархоменко провожал Ламычева, который уезжал в Екатеринослав для доклада командованию Конармии о действиях группы, преследующей Махно. Позади, скрипя полозьями, шла подвода, возница что-то насвистывал, а Ламычев вслух перебирал, что он скажет, хотя все слова были тщательно записаны:
— …передвижения противник совершает большей частью ночью, для чего разделяется на маленькие шайки. Махно говорит: там-то и там соединяемся, — и разбегаются. Что же касается снабжения и пополнения, то черпаемое им в кулацких районах…
Он откинул назад голову, посмотрел голубыми широко расставленными глазами в небо и сказал:
— На Дон мне хочется, Александр Яковлевич!
— Внука растить?
— И внука и вообще все человечество, Александр Яковлевич!
Пархоменко рассмеялся. Хотя последнее время была страшная скачка, все же Ламычев, по стародавнему времени считая сражение с Махно пустяковым делом, успокоился, раздобрел и ходил необычайно самодовольный и важный. И сейчас он шел, выпятив грудь и глубоко дыша морозным крепким воздухом.
Поскрипывали полозья. Из переулка гнали к водопою скотину. Корова остановилась у коричневого плетня и стала тереться; с плетня падал слежавшийся снег.
Пархоменко спросил:
— А ты, Терентий Саввич, к нашим-то зайдешь?
— В войне — народу сутки, а себе минутки. Обязательно зайду, отдам минутку. Харитина Григорьевна детей собиралась везти в Екатеринослав. Как сказать?
— Чего им мучиться по этим железным дорогам. Не советую, скажи. Вот Махну выметем, Донбасс подметем, уголь станем доставать: ему небось тоскливо под землей лежать. Да и то сказать — всякому огня хочется.
— И углю?
Они рассмеялись.
— По углю думаешь пойти, Александр Яковлевич?
— Хотел бы по заводскому делу, да не пустят. Климент говорил, что в академию надо идти.
— Для академии ты ростом вышел!
Ламычев достал часы, щелкнул крышкой: дескать, и мы тоже делали кое-что, и — пожелай мы в академию, вряд ли откажут. Хороший, честный мужик этот Ламычев! А семья какая, какое крепкое, честное племя!