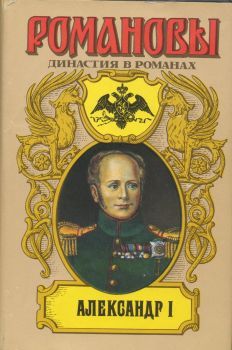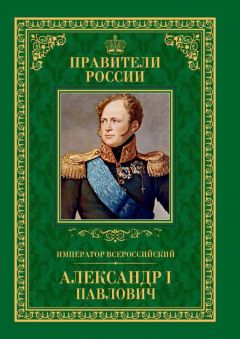Чистота в домах изумительная, но чтобы приучить к ней, потребляются воза шпицрутенов. Мужики метут аллеи, а в поле рожь сыплется; стригут деревца по мерке, а сено гниёт. Печные заслонки с амурами, а топить нечем. К обеду поросёнок жареный, а есть нечего; один шалун из флигель-адъютантов государевых отрезал однажды поросёнку ухо в первой избе и приставил на то же место в пятой: пока государь переходил из дома в дом по улице, жаркое переносилось по задворкам. Кабаки закрыты, а посуду с вином провозят в хвостах лошадиных. Все пьют мёртвую, а кто не пьёт – мешается в уме или руки на себя накладывает. Целые семейства уходят в болота, во мхи, чтобы там заморить себя голодом.
«Спаси, государь, крещёный народ от Аракчеева!» – готов был воскликнуть Тарасов, слушая эти рассказы. Любил царя, знал доброе сердце его и не понимал, как может он обманываться так. Или прав Капитон, что тут наваждение бесовское?
А государь въехал в Грузино с тем чувством, которое всегда испытывал в этих местах: как будто усталый путник возвращался на родину; вот где всё позабыть, от всего отдохнуть, успокоиться. «Я у тебя как у Христа за пазухой!» – говаривал хозяину.
Было и другое чувство, ещё более сладостное: вспоминая «рай земной» военных поселений, вкушал отраду единственную, которая оставалась ему в жизни, – будучи самому несчастным, делать других счастливыми.
С этой отрадой в душе уснул так спокойно в ту ночь, как уже давно не спал.
У Аракчеева бывали бессонницы: ляжет, потушит свечу, закроет глаза, но вместо того, чтобы заснуть, начнёт думать о смерти и почувствует тоску, сердцебиение, расстройство нервов и совершенную бессонницу.
Такой припадок случился с ним и в эту ночь. Долго с боку на бок ворочался; принял миндально-анисовых капель с пырейным экстрактом, – не помогло. Встал, надел серый длиннополый сюртук, вроде шлафрока, который всегда носил в Грузине, – щёгольства не любил, и пошёл бродить по комнатам.
Искал, чем бы заняться, чтоб рассеять скуку. Проверял висевшие на стенах инвентари вещей в каждой комнате, с предостерегающей надписью: «Глазами гляди, а рукам воли не давай». Осматривал, всё ли в порядке, расставлены ли вещи как следует, не пропало ли что, нет ли где изъяна – паутины, грязи, пыли; мочил слюною платок, ложился на пол, подлезал под мебель и пробовал, чисто ли выметен пол, не потемнеет ли платок от пыли. Но пыли не было. Кряхтя и охая, подымался опять на ноги и начинал бродить.
Уставал, присаживался, перебирал лежавшие на столах презенты и сувениры; нашёл стихи поэта Олина[218] к портрету графа Аракчеева:
Как русский Цинциннат[219], в душе своей спокоен,
Венок гражданский свой повесил он на плуг,
Друг Александра, правды друг,
Нелестный патриот, он вечных броне достоим.
Стихи не утешили. Просматривал счётные книги, в которые мельчайшим почерком заносились домашние расходы: когда сахарная голова куплена и на куски изрублена; сколько вышло бутылок вина, ложек постного масла в тёртую редьку людям на ужин, миткалю[220] дворовым девкам на косынки, пестряди кучерам на рубахи. Расходы непомерные: этак и разориться не долго! Лучше не думать, а то ещё больше расстроишься.
Принялся читать винные книжки, в которых вины и штрафы записаны: кому за какую вину сколько розог. Вспомнил у дежурного мальчика незавитые волосы; записал и начал воображаемый выговор воображаемому дворецкому: «Предписываю тебе строгое за оным смотрение иметь, а то спина твоя долго заживать не будет…»
Начав говорить, не мог остановиться: ровным, гнусавым и тягучим голосом выматывал душу незримому слушателю:
– Люди должны делать всё, что нужно, а если дурно будут делать, то на оное розги есть. Мне очень мудрёно кажется, будто людей нельзя содержать так, чтобы всё аккуратно делали…
То хныкал жалобно:
– Огорчил ты меня, старика, а всякое огорчение меня убивает и приближает к концу дней моих, к чему и готовлюсь. Знаешь мой мнительный карахтер, что со мною нужно обходиться ласково…
То гневно покрикивал:
– В Сибирь не сошлю, а лучше сам забью!
И повторял много раз тихим, замирающим, как будто ласковым, шёпотом:
– Высечь хорошенечко! Высечь хорошенечко!
Опомнился, оглянулся, увидел, что никого нет, махнул рукою безнадёжно и опять пошёл бродить; не находил себе места: такая скука, что хоть плачь; стонал и охал от скуки, как от боли. Не зайти ли к Настеньке? Нет, не хочется. Кваску бы – в горле что-то смякло? Нет, и кваску не хочется. Ничего не хочется. Скука смертная, пустота зияющая, которой ничем не наполнить. С ума сойти можно. Испугался, опять принял капель, опять не помогло.
Сам не помнил, как очутился внизу, в библиотеке; тут же арсенал и застенок; кадки с рассолом, в котором мокнут свежие розги. Попробовал на языке одну: солона ли как следует.
Взглянул на корешки любимых книг, на особую полку отставленных, единственных, которые читал: «Молодой дикий, или Опасное стремление первых страстей». – «Дикий человек, смеющийся учёности и нравам нынешнего света». – «Нежные объятья в браке и потехи с любовницами». – «Великопостный конфект». – «Путь к бессмертному сожитию ангелов». – «Египетский оракул, или Полный и новейший гадательный способ». – «Опыт употребления времени и самого себя».
Попробовал читать «Опыт». Нет, скучно, да и темно. Заглянул в рисунки шлагбаумов и будок; на минуту заняло; но сделалось душно, запахло от книг мышами и сыростью, от мочёных розог – банным веником. Захотелось на свежий воздух: не полегчает ли хоть там?
Надел вязаный шарф и кожаные калоши; носил их даже в сухую погоду: неровен час, дождик пойдёт, ноги промочишь, простудишься, горячку схватишь, – много ли человеку надо?
Проходя в передней мимо зеркала, увидел нечаянно лицо своё, – испугался ещё больше: худ, бледен, зелен – «шкелет шкелетом». Отвернулся и плюнул с досадою.
Вышел в сад. Белая, жаркая, душная ночь. Тишина – только комары жужжат да лягушки квакают. Серая, в сером свете, зелень, как пепел. Туман как банный пар. Берёзовым веником пахнет и здесь, как мочёною розгою. Дышать нечем. И нельзя понять, есть ли тучи на небе, – такое оно ровное, белое, пустое: кажется, и там, в небе, как в нём, пустота зияющая, скука бездонная.
Осматривал дорожки, чисто ли выметены. Чистоты в саду требовал такой же, как в комнатах: кто бы ни прошёл по аллее, – дежурный садовник заметал след метлою.
Множество памятников, надгробных плит: «Милой Дианке», «Верному Жучку», «Сын в память родителям». Похоже на кладбище, и сам он как могильный выходец: может быть, умер давно, встаёт из гроба, ходит по кладбищу и будет ходить так до скончания века.
Вернулся к дому. На крыльце у бокового флигеля кто-то сидел. Место глухое; тут и днём редко ходят: слева – дремучие кусты акации, справа – стена нежилого флигеля. Кто это? Серый, страшный, похожий на призрак. Капитон Алилуев, сумасшедший. В сером больничном халате и белом колпаке, сидит на завалинке, высматривает, как будто ждёт кого-то. Уж не его ли? «Зарежет», – подумал Аракчеев и хотел шмыгнуть в кусты, но было поздно: тот увидел его и закивал головою, поманил пальцем. Без голоса, только по движению губ, видно было, шепчет:
– Папашенька! Папашенька!
И тихо смеётся.
За углом флигеля парадное крыльцо; там часовые под окнами спальни государевой. Закричать бы, да голоса нет; побежать бы, да ноги не слушают. А тот всё манит да манит, как будто знает, что он от него не уйдёт. И вдруг потянуло к нему Аракчеева. Подошёл, опустился рядом на завалинку. Капитон молча глядел на него, смеялся, кивал головою, – и на белом колпаке качалась кисточка.
– Что ты, что ты здесь, Капитоша, делаешь, а? – произнёс Аракчеев осторожно, хитро и ласково.
– Государя жду, – подмигнул ему сумасшедший с таким лукавством, что видно было, перехитрить его не так-то легко.
– А зачем тебе государь?
– Донос имею.
– На кого?
– На вас, папашенька!
– А как ты сюда из больницы пришёл?
– Черти принесли; всё черти носят, а скоро и совсем унесут, задерут до смерти.
– Ох, Капитоша, миленький, не говори лучше о них на ночь, не накликай!
– Чего накликать? И так всегда с вами. Вишь, их сколько! Бес Колотун на плече, бес Щекотун на пупе, бес Болтун на языке, – три больших, а десять маленьких. Свербей Свербеичей, на каждом пальчике…
Аракчеев хотел перекреститься, но рука не поднялась.
– А за что же они тебя задерут, Капитошенька?
– За иконы бесовские: девки поганой Настьки во образе Владычицы да Аракчеева изверга во образе Спасителя. Только вы не думайте, папашенька: не меня одного – и вас. Вместе на суд предстанем!
Опять помолчали, глядя друг на друга так, что казалось, уже не один, а два сумасшедших.
– За что же ты на меня государю жаловаться хочешь?