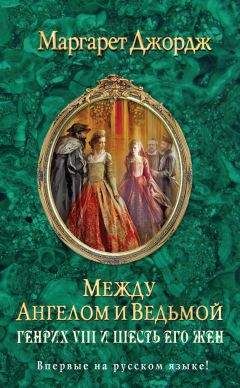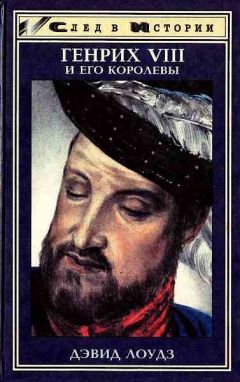Говард прибыл, когда часы пробили девять раз. Он был в черном — я распорядился насчет глубокого траура при дворе.
— Вы принесли стихи? — спросил я его.
Он протянул мне папку с бумагами.
— Все, что есть, — сказал он, — как вы и просили.
— Я хочу прочесть на похоронах стихотворение, — сказал я. — Пытался сочинить сам, но опустошительное горе, увы, лишило меня и вдохновения. Однако мне вдруг вспомнилась одна строчка, по-моему из ваших стихов. «Без огорчения сменял дворец…»
— Да. Из моих, — кивнул он.
Должно быть, Говард обрадовался, но, как все сочинители, считал ниже своего достоинства выказывать удовольствие от похвал и признания публики.
— Вот здесь стихотворение целиком, — добавил он и положил на стол рядом со свечой исписанный лист бумаги.
Да! Это именно то, что мне хотелось сказать. Казалось, мои потаенные чувства облеклись в эти строки.
— Это же… как раз то, что мне хотелось выразить в словах, — изумленно произнес я.
Тогда он зарделся.
— Ваша оценка является высочайшей наградой для поэта. Мы томимся муками творчества в скромных кабинетах, поверяя бумаге сокровенные мысли и переживания, но верим, что их смогут понять все люди. Поэт пишет в одиночестве, однако способен постичь человеческую душу… если он талантлив. Если же бездарен, то труды его бесполезны. Самое страшное, что, сидя в уединенной келье, мы не ведаем того, что творим. И только вера придает нам смелости.
— Да-да. — Мне не хотелось захваливать его. — Я не люблю пользоваться чужими успехами, но на сей раз у меня нет выбора. Моим стихам не было суждено родиться, а ваши уже есть.
— Но они предназначены для всех. Я надеюсь, что спустя годы, когда я покину сей мир и никому уже не нужно будет спрашивать мое согласие, они смогут по-прежнему найти понимающего читателя.
Я взглянул на него. Видимо, он честен и искренен. Генри обладал небесным великодушием творца. Вместе с тем ему присущи ограниченность, изменчивость и злопамятность. Как могут уживаться в одном человеке две противоположные натуры?
— Мне доложили о ваших трудностях в Булони, — все-таки сказал я, сожалея, что приходится разрушать чары лирики. — Что могло вызвать такие беспорядки?
Нас соединяли музы поэзии, мы были собратьями по перу, но жизнь разводила нас, вынуждая опять влезть в шкуры правителя и подданного.
— Этот городок подобен бунтующему незаконнорожденному отпрыску Англии, — ответил он. — Долго ли придется укрощать его норов? В Турне мы еще пытались навести английские порядки. Угрохали кучу сил и денег. Французские жители Турне имели представительство в парламенте. А сейчас всем понятно, что Булонь всего лишь пешка в военной игре и город вернут Франции за достойный выкуп. Кому охота торчать там? Солдаты извелись от скуки, и их стало трудно держать в узде.
Я вздохнул. Его слова были справедливы. Снабжение и защита Булони требовали огромных расходов, а в казне не было таких запасов, как в 1513 году. Увы, я не мог предоставить для содержания города нужные средства.
— Ладно, делайте все возможное, — ответил я.
Понятно, что он рассчитывал выяснить, каковы наши окончательные планы относительно Булони. О да, они были великолепны: присоединить ее к Кале, дабы удвоить английские владения. Но это требовало денежных вложений, а как раз деньгами я не располагал. Для захвата Булони мне и так пришлось занять у антверпенских ростовщиков внушительную сумму, и долги предстояло вернуть с процентами.
Как же я устал.
— Благодарю вас, мой мальчик, — сказал я в заключение. — Вы можете быть свободны.
Он чопорно поклонился. В его взгляде мелькнуло разочарование.
— Я назвал вас по-отечески, поскольку вы дружили с моим сыном, — добавил я.
— В этой папке есть стихи о годах, проведенных с ним вместе в Виндзоре, — с легкой улыбкой заметил Говард. — Я по-прежнему скорблю о нем.
— Я тоже. Доброй ночи, Генри.
Поэзия вновь объединила наши души.
— Доброй ночи, ваше величество.
Я остался в одиночестве. На столе плясало и трепетало пламя свечей, и мне вдруг вспомнилась еще одна причина моей ненависти к Виндзору: мой сын благоденствовал здесь совсем недолго. Эти мертвые серые камни ожили, пока он был здесь. Однако его молодая жизнь оказалась такой быстротечной. Виндзор точно пропитался смертельным ядом. Ничто здесь не выживало.
Я принялся просматривать бумаги Говарда в надежде найти стихи, посвященные моему сыну. Творения Суррея лежали в ветхой папке. Слишком ветхой, чтобы доверить ей чью-то славу или воспоминание.
* * *
Как вышло, что моей тюрьмой ты стал,
Виндзорский замок, где в былые годы
Я с королевским сыном возрастал
Среди утех беспечных и свободы?[47]
* * *
Значит, Суррей написал эти стихи в тюрьме? Его заточение послужило тому, чтобы хотя бы на мгновение вернуть моего сына из небытия.
* * *
Я знал, что должен сделать. Отправиться к гробу Брэндона, стоявшему перед алтарем. Там я смогу проститься с ним без посторонних.
Церковь была пуста. Алтарь загораживал вознесшийся над гробом балдахин, просторный и черный, как и сам храм. Вокруг мерцали давно зажженные свечи, воск уже сгорел до половины, образовав причудливые наплывы. Тени плясали, будто девы, которых должны принести в жертву во время языческого обряда.
Преклонив колени на каменных ступенях, я закрыл глаза и представил Чарлза. Ведь он должен быть здесь. Умом я понимал, что его останки покоятся внутри роскошного черного гроба, но в душе словно оборвалась связующая нас нить. Чарлз… что же я сказал ему напоследок?
В тот вечер на борту «Большого Гарри»… О чем же мы говорили перед его уходом? О чем, о чем?
«Да, впереди долгая ночь, — вспомнил я свои слова. — Но мысленно я буду с вами».
Он пожал мне руку и, рассмеявшись, ответил: «Наша жизнь проходит в сражениях с французами. Помните, ваша милость, какие чудные планы мы строили в Шинском маноре?»
«Бойцы вспоминают минувшие дни, — заключил я. — Ладно, доброй ночи, Чарлз».
— Доброй ночи, Чарлз, — произнес я вслух, коснувшись траурного покрова. — Ты верно сказал. В Шинском маноре мы строили чудные планы! И мы жили ими. Осуществляя наши мечты, мы получали от жизни высшие награды. Спи спокойно, друг мой. Вскоре я присоединюсь к тебе.
Я начал подниматься, и вдруг на меня обрушился шквал воспоминаний. Наша первая встреча, когда я стучал в ворота Шина, его крепкое рукопожатие. Его советы — мне, испуганному юному девственнику, — после нашего венчания с Екатериной Арагонской. Он защищал меня во время моего безумного увлечения Нэн, выдерживая даже осуждение его жены. Он самоотверженно поддерживал меня после смерти Джейн. Внезапно я увидел его лицо в разные годы, услышал его смех, почувствовал его любовь, ту, что неизменно согревала меня. Всю жизнь я искал такой любви, не умея распознать ее рядом.
И вот я осиротел. Ушел единственный человек, который действительно любил и знал меня с раннего детства. Брэндон встретил меня в те годы, когда я был всего лишь младшим сыном короля, принял мою сторону, когда Артур считался законным наследником.
Я протянул руку к величественному гробу.
— Я люблю тебя, — произнес я с проникновенностью, какой не слышала от меня ни одна женщина.
Словно давая обет, я прижал ладонь к черному бархату и надолго замер в печальном молчании. Внезапно мою задумчивость нарушило тактичное покашливание, донесшееся из темной глубины храма. Рыцари терпеливо ждали, когда я соизволю освободить место возле погребального помоста для ритуального всенощного бдения. Я значительно сократил его срок — шел уже третий час ночи, скоро начнет светать.
С рассветом наступит день похорон Брэндона. Убрав руку с гроба, я оставил друга в покое, который и сам попытаюсь обрести в оставшиеся короткие ночные часы.
Государственные похороны, как и все прочие важные церемонии, проводились строго по протоколу. Моя бабушка, Маргарита Бофор, установила точные правила, коим надлежало неукоснительно следовать при рождении, венчании и похоронах высокородных особ. Она полагала, что каждое из этих событий связано с божественным таинством, а незыблемость и величие ритуала укрепят эту связь, побудив Господа ниспослать нам благодать и поддержку на долгие годы последующего бытия. Возможно, она была права. В любом случае я подчинялся ее эдикту и верил, что он угоден Господу.
* * *
Похороны назначили на восемь утра, после торжественного шествия началась поминальная служба. Целую ночь по покойному герцогу трезвонили колокола. После краткого благовеста из девяти ударов, возвестивших о кончине мужа, последовала череда из шестидесяти ударов, по одному на каждый год прожитой им жизни.