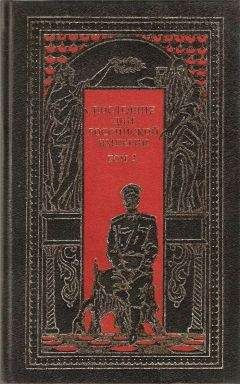Стало жутко и страшно. Этот призрак своими страшными глазами: «не могу молчать» показал, как высоко по сравнению с настоящим было прошлое, когда люди не молчали, а боролись, кричали, негодовали и возмущались каждому насилию.
Призрак давно исчез. Голубая степь точно ожила после его появления, поднялись лазоревые цветы и тюльпаны гордо выставили свои пёстрые колокольчики. Небо стало ясно и прозрачно, и взор уходил в его беспредельную глубину.
Просветлели лица толпы. Они точно приобщились какого-то великого таинства любви. Свежий ароматный ветер тянул с горы и вливал радость и бодрость в людей.
Страшно было лицо Владимира Ильича. Уже не презрение, но неописуемая злоба искажала отвратительные черты его, и оно казалось лицом упыря, упившегося человеческой кровью, насытившегося мертвечины. Зеленовато-белое, страшное, грозное было оно. Он пролез в узкий проход между своей ложей и трибуной, и за ним прошла на трибуну вся толпа народных комиссаров. Красивый человек с ухватками польского иезуита и большими светлыми прекрасными глазами стал позади него Наряд китайцев и латышей плотной стеной закрыл мрамор перил трибуны.
Народ придвинулся вплотную и глядел на Владимира Ильича. Владимир Ильич растерянно шарил глазами по лицам народной толпы. Он искал в них привычной угодливости, но всюду встречал глухие замкнутые взоры. Никто не желал ни признавать, ни понимать его.
Он гневно ударил кулаком по мрамору перил и воскликнул:
— Завоевания революции!
Небо померкло. Цветы поникли своими головками и начали быстро, на глазах у всех, увядать. Вместо свежего аромата степи потянуло запахом пороха, дыма пожарищ, крови и мертвечины. Все сильнее пахло разлагающимися гнилыми телами, становилось трудно дышать. Из синей степь стала чёрной, потом мертвенно-бледной, сташа пятнами чернеть и проваливаться. Из расщелин и ям повалили страшные призраки...
Показались нелепые неграмотные надписи, страшные плакаты с уродливыми кровавыми рисунками. Рушилась красота русского языка, рушилось великое слово русское... Запакощивались детские сердца, и повалили вперёд дети революции. Шли младенцы, худые, сизые, рахитические, не знающие святого слова «мать». Шли подростки, покрытые розовыми пятнами сифилисной сыпи, шли девочки с провалившимися носами и несли на руках своих копошащихся красных детей. Пакостная ругань оскверняла детские уста, и не святая невинность и непорочность была на них, но страшный вынужденный голодом разврат.
Содрогнулись рабочие, красноармейцы стали закрывать глаза и гневно сжимать кулаки.
А земля, лопаясь, как лопаются пузыри на поджариваемом мясе, выбрасывала новые страшные толпы завоеваний революции.
Показались трупы убитых городовых, и струями потекла к трибунам красная человеческая кровь.
Юноши-гимназисты в чёрных курточках и серых штанах, с ёжиком остриженными головами показались с пробитыми черепами, разможжёнными головами и простреленными грудями. Архиереи, кадеты, юнкера, девушки, студенты, офицеры, старые генералы, профессора, писатели, священники, старые казаки выдвигались из земли и шли плотными рядами. У одних были оторваны головы и они несли их на своих руках. У других на коже были вырезаны лампасы и погоны и вместо звёздочек в живое мясо были забиты гвозди. У третьих была содрана совсем кожа с рук, и они несли её в окровавленных пальцах, как перчатки. Иные были совершенно изуродованы и шли с ртами, заткнутыми окровавленными комками мяса. Показались мельницы с привязанными к крыльям обнажёнными людьми, показались люди, закопанные по шею в землю, показались заживо похороненные люди...
Их было так много, что степь стала вся закрыта ими. Кровь лилась ручьями, сливалась в потоки и реки и готова была затопить весь мраморный портик.
Шли рыдающие вдовы, шли матери, лишившиеся своих детей, шли бледные изнасилованные девушки с пустыми, ничего не видящими глазами. Шли завоевания революции.
Небо не радовало взора этих людей, цветов они не видали, радости не имели.
Показались толпы рабов, занятых ненужными работами. Послышались стоны и плачь, и их покрыло свирепое улюлюкание палачей, грозные окрики, похабная матерная ругань и нелепые обидные частушки.
Стояли роскошные дома с разбитыми дверями и выбитыми окнами, стояли мёртвые, тихие фабрики с заржавелыми станками и холодными трубами, покрытые пылью и грязью паровозы, поломанные вагоны. Обломки мостов висели над реками, и трава покрывала полотно железных дорог.
Далеко в Русскую землю углубилась революция и все завоевала и разрушила.
Толпа видела запакощенные храмы, содранные изуродованные иконы, разбитые иконостасы, танцы в храмах.
Мертвечиной несло от полей, деревень, лугов и городов.
Этот страшный хаос сливался постепенно в одно сплошное кровавое пятно. И на фоне его отчётливо выделилось страшное видение.
Вся толпа как один человек подняла голову. Шеи вытянулись, глаза напряглись, и ужас отразился на лицах холодной жестокой толпы.
— Этого нам никогда ни Бог, ни люди не простят, — прошептал подле Ники какой-то человек.
Окровавленные, исхудалые, измученные муками душевными и телесными от самого неба спускались по кровавому пути семь бледных теней. И как от святых ангелов шло сияние от них. Впереди двое, взявшись под руку и поддерживая друг друга, как шли они и всю земную жизнь, сзади четыре юные девушки и отрок невинный.
Кровь, кровь... кровь... была на их одеждах.
Эта кровь невидимым дождём упадала на толпу, и Ника и его соседи с ужасом видели, как на их руках, на их одежде стали появляться пятна святой мученической крови.
Все завоевала революция. Всего лишила русский народ.
Страшная хула на Бога, самая последняя пакость, связанная с именем Божией Матери, стояла над толпой, уже привычная ей. И в ужасе повторяли: «Религия — опиум для народа».
Вместо Государя перед народом маячила шутовская фигура упыря с лицом удавленника и глазами идиота, делавшего своё страшное кровавое дело.
Показались нелепые картины, послышались странные нерусские стихи, нерусские слова, нерусское писание.
Все погибло!
К прошлому! Прекрасному прошлому возврата нет!
Из потоков крови на потемневшем мрачном небе стала выдвигаться страшная чёрная Голгофа. Молнии прорезали чёрное небо, и раскатисто ухнул и грянул гром. Суровая мрачная скала выдвинулась на горизонте и на той скале было три громадных креста. Один посередине больше других двух и два по бокам.
На среднем кресте распята была женщина. Никто не мог разобрать низко склонённого в великой скорби и муке лица, но каждый увидал в нём лицо своей матери, Мать каждого висела на среднем кресте.
У подножия правого креста были навалены грудой погоны, ордена, знамёна с двуглавыми орлами, трубы, ружья, сабли, пики. Поломанное и заржавевшее, с поломанными древками и отбитыми орлами, с разорванными шёлковыми полотнищами, всё это было сброшено к основанию креста, на котором распят был дивно прекрасный юноша. Тяжёлые крестные муки не могли согнать с его лица мужественного и гордого выражения, и он умер гордый и уверенный в победе, с верой глядя на средний крест.
Под левым крестом были свалены книги и картины. Принадлежности учёного кабинета в обломках лежали здесь. Распятый на этом кресте был человек лет сорока, с небольшой курчавой бородкой клинушком и русыми густыми волосами, упрямо падавшими длинными прядями на белый лоб. Он капризно отвернулся от среднего креста, и на лице его застыли мука и презрение.
— Армия и интеллигенция распяты с Россией, — сказал кто-то в толпе.
Чёрные тучи расступились, и кровавое зарево загорелось на небе.
— Распяли матушку! — послышался чей-то громкий отчаянный голос.
— Кто распял-то?
— Все они.
— А не мы ли сами?
— Жиды распяли.
— Христа распяли... И матушку-Русь порешили. Святую... Православную...
Заволновалась толпа. Плеснула точно море, проснувшееся от штиля и предчувствующее бурю. Потемнела, как море, когда белый буревестник низко пролетит над ним и коснётся крылом мрачных волн, и вдруг прошелестит, поднявшись, одна волна, и встанет над ней другая и зашипит, рассыпаясь в пену.
Как волна встало страшное слово:
— Завели нас в пучину, сукины сыны!
Сорвалась великая брань между комиссарами и толпой. Были обруганы комиссары.
— Обманули тёмный народ!
— Все кругом лгали!
— Воры, казнокрады!
— Палачи, убийцы!
И уже грозно встала и зашумела буря народного гнева. Понял Владимир Ильич, что теперь ничто не спасёт его от суда народного. Поняли латыши и китайцы, что никаким пулемётным огнём не остановить им назревшей великой бури.