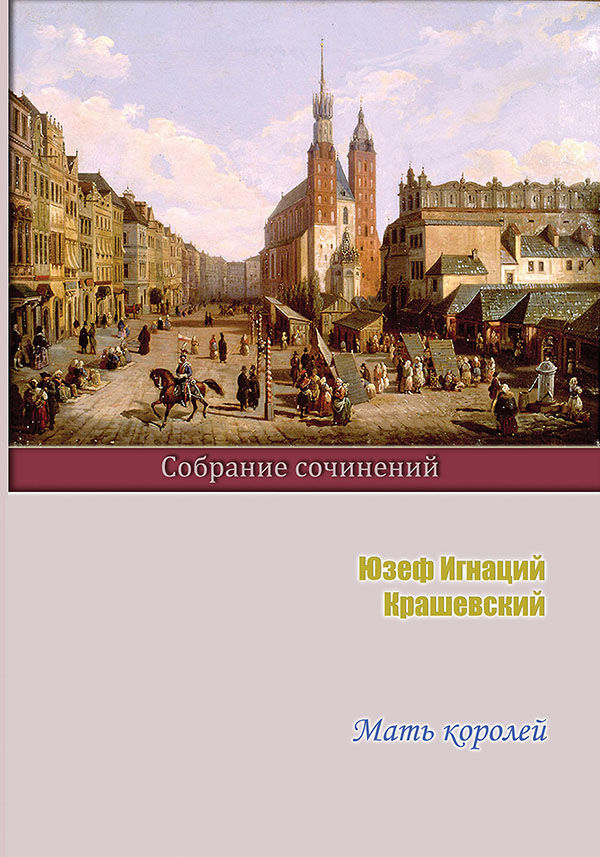ему в колени, сделал очи горе. Он перекрестился… желал ему награду за милосердие от Господа на небесах.
И когда из Кракова выезжали литовские послы, которых вели поляки, направлясь к Новому Сончу, Бобрек покорненько ехал с ними на лошадке, смотря только, не удасться ли по дороге что-нибудь перехватить в карман или в память.
Юная королева даже в тех, кто должен был пожертвовать её Польше, пробуждала живое сочувствие, как жертва. По правде говоря, нежной, изученной любви трумеров и миннезингеров, любовных дворов, трибуналов сентимента в Польше никогда не принималось и не процветали. Возможно, как исключение, пели о ней на вроцлавском дворе, но у польских рыцарей не было ни времени, ни настроения играть в какие-либо романы.
Понимали привязанность, понимали долг, кровь часто шалела в минутном распутстве, но не проводили дни и вечера на обсуждении сердечных доктрин, как на западе. В свободные минуты предпочитали неприличные шутки, остроумные рассказы песням, летающим в облаках.
Говорили, что, расставшись со своим любимым Вильгельмом, королева его забудет, а супруга полюбит и будет с ним счастлива. Её возраст не позволял принимать так серьёзно детской привязанности, чтобы пожертвовать ради неё государством.
С каждым днём связь Литвы с Польшей казалась более сильным рычагом для будущего. Перед ней всё должно было уступить.
Гневош, сколько бы раз не пытался приобрести кого-нибудь для королевы, практически всегда находил жалость к ней, но при том самое горячее желание принять подарки Ягайллы. Его дело не нуждалось в представителях, говорило само за себя.
Единственным средством не допустить Ягайллу было спешно соединить её с Вильгельмом, в силу той клятвы в детстве. На неё рассчитывала Ядвига, а Вильгельм, с минуты на минуту ожидаемый, не приезжал. Наступали дни сомнения, в которых Ядвига, считая себя покинутой, плакала.
Она не предполагала, что её что-нибудь может заставить отдать руку литвину. А то, что ей о нём рассказывали, ещё постоянно увеличивало ужас и непреодолимое отвращение. Из города приносили рассказы, будто бы подчерпнутые от литовских послов двора, представляя Ягайллу как ужасного человека, дикого, любящего проливать кровь, замкнутого в себе, неразговорчивого, вспыльчивого, мнительного, живущего сырым мясом, дни и ночи проводящего в лесу, в которых совершал языческие обряды.
Смерть Кейстута и многих других приписывали ему… Крестоносцы и народ благоволили Вильгельму, придумывали всё новую клевету.
Нетерпение Ядвиги, её обида на Вильгельма, который ей на помощь не спешил, передались и Гневошу, уже не знающему, как это себе объяснить и его оправдать.
Наконец однажды вечером примчался гонец, отправленный к Гневошу, объявляющий, что завтра приедет герцог, и он требует для него гостиницу. Осторожный и хитрый Гневош предложил свой дом, находящийся неподалёку от замка, который он опустошил и прибрал. У Франчка Морштейна было бы великолепней, но подкоморий был завистлив, боялся, как бы кто-нибудь другой умышленно не завладел юношей.
Когда запыхавшаяся Хильда с улыбкой вбежала в комнату королевы и потихоньку хотела ей шепнуть радостную новость, Ядвига, которая по лицу охмистрины уже догадалась, что та принесла, вскочила от прялки, изменившаяся от радости, счастливая, победоносная, и сама приветствовала её выкриком.
– Говори громко! Я знаю, что ты принесла. Не хочу никаких тайн. Пусть слышит весь свет! Мой муж приезжает! Когда?
– Завтра!
Лицо молодой королевы заблестело как розочка, вернулись улыбка, надежда, счастье…
Она бросилась на шею Эльзе Эмриковне, крича по-детски:
– Слышишь! Он приезжает! Приезжает! Радуйся!
Невеста Спытка хотела бы разделить радость своей пани, но знала от него, как мало надежды мог иметь австрийский герцог. Её личико погрустнело, она предвидела теперь начало борьбы и тяжёлые для Ядвиги дни.
Она торжествовала; в её убеждении всё было кончено, коль скоро приезжал Вильгельм. Его права должны были уважать, а она была королевой.
В мгновение ока в этих грустных комнатах королевы всё приобрело новую физиономию. Она сама оживилась… кричала, чтобы ей готовили назавтра самые красивые наряды и драгоценности, хотела быть красивой для него, хотела казаться королевой. Она даже не колебалась с насмешливым восторгом приказать принести ей колье и безделушки, которые видели среди подарков Ягайллы.
Весь её двор радовался с ней, бегал, смеялся. Чрезвычайное оживление в комнатах, ещё менее привычная радость тех, кто ни о чём не знал, удивили и заинтересовали. Должно быть, догадывались, что тут было что-то важное, судьбоносное и благоприятное для королевы.
Но бдительный и суровый Добеслав из Курозвек, который всей душой был предан Ягайлле, уже заранее имел сведения, что Вильгельм может прибыть, приказал быть начеку. Гонец, отправленный Гневошу, был подслушан и каштелян бежал к Яську из Тенчина на Совет, как поступить, когда появится герцог.
Сбежались и другие паны Совета. Было нельзя стеснять королеву, держать её в неволе и без причины выгнать герцога могущественного дома из страны. Они должны были действовать с большой осторожностью.
Эта весть сильно озадачила всех панов. Догадались, что его могла вызвать Ядвига. Добеславу из Курозвек пришлось впустить его в замок, с этим все согласились, но могли ли они запретить им видеться?
– В присутствии двора, публично, – воскликнул Ясько из Тенчина, – мы не можем закрыть ему дороги на аудиенцию, на беседу, но гостить в замке… тайно там находиться мы не позволим. Со всяческим уважением к герцогу, мы должны оберегать честь королевы; мы не допустим их сближения, потому что потом он засел бы в замке и требовал свои права.
Возбуждение умов было чрезвычайным. Добеслав из Курозвек, если бы это зависело только от него, прямо хотел его вынудить вернуться. Ясько из Тенчина боялся доводить бедную королеву до крайности, до отчаяния. Спытек настаивал на умеренности и голосовал против всякого насилия.
Совещание протянулось допоздна, и остановились на том, что каштелян Войницкий предлагал первым: ходить шаг за шагом и следить за Вильгельмом, впускать в замок только на аудиенцию, на застолье, на беседы при свидетелях.
– Если герцог захочет большего и позволит себе какую-нибудь выходку, тогда, – говорил Ян из Тарнова, – с надлежащим уважением мы выметем его из города и с отрядом отправим его прочь за границу, так же, как уже вывели Сигизмунда Люксембургского.
Все с этим согласились. Каштелян отправил людей на разведку. Они принесли информацию, что дом Гневоша приготовили для размещения в нём герцога, маршалек Николай из Бжезия немедленно послал за ним.
Вызванный подкоморий, подумав, появился. Он был обязан краковскому пану и другим, которым раньше служил и льстил, своим перемещением. До сих пор он был к ним с той былой униженностью, которая только при чужих облачалась в доверительность. Сейчас нужно было сбросить маску и встать против бывших опекунов.
Гневош не