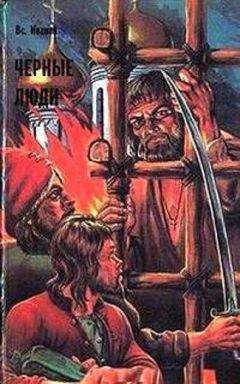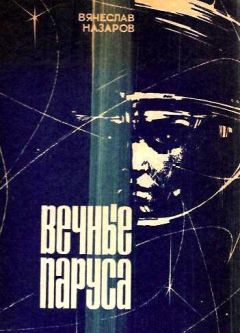— «Благословен еси, господи, научи мя оправданиям своим…» — тихо стеная, вздыхает хор.
«Земля бунтует, а вот где он, корень, — в этой черной женщине. В ближней боярыне! Кому ж можно верить? Аввакумовы письма получает, чтет, переписывает, дале шлет. Оба — он и она — меня проклинают… мою Марью погубили».
И трех месяцев не прошло, как схоронили царицу Марью, как по весне снова шел царь по Кремлю в Архангельский собор: хоронили теперь царевича Семена — простыл ономнясь младенец, как матку хоронили…
Проклятия Никона потяжеле каменного дождя.
В Коломенском перестали работать резчики и столяры, изографы[168] из Оружейной палаты взялись расписывать потолки, стенки, вставки над окнами, над дверьми… Первый царский изограф Семен Ушаков правит всем делом, с ним работают его товарищи — Иван Макилов, Федор Юрьев. Травы и цветки делает армянин Богдан Султанов на «персидское дело»… Ангелы, архангелы парят по потолку, святые сияют. Тут же, по стенам, указал царь написать и великих воителей древности — Александра Македонского, Юлия Кесаря, Дария Персидского и других. Искусно написаны аллегории Еуропы, Азии, Африки, разных стран и гербы разноличные. Не то что глаза, а и ум разбегается.
Атамановы казаки кинули Мазандеран, вышли в море — пошарпали еще восточные берега Каспия, добавили добычи, но все равно нужна была земля. Стали станом на голом Свином острове под Баку, — кругом качается бурное море, раскаленные солнцем скалы, песок да галька, лето идет в грозах да бурях, хлеба нет, а шаховы корабли не дают передохнуть. В каленом июле подошло к Свиному семьдесят шаховых кораблей, обложили казаков со всех сторон: куда ни глянь — на бело-зеленых волнах диковинные пестрые корабли с высокими кормами, на белых парусах.
Приходилось казакам тут одно: либо победить, либо помереть! Победили.
Дрались впритын, стояли насмерть, топили отчаянно персидские корабли — всего три из семидесяти спаслись, и на одном еле ушел командовавший персами Менеды-хан. Разин-атаман захватил великие богатства Менеды-хана да его детей взял, дочку-красавицу да сына-юношу.
Дорога обошлась победа, — почитай, треть у казаков была убита да переранена, силы ослаблены, а разъяренный шах готовил еще больше кораблей. Надо было уходить с моря на землю. Куда? Оставался один путь — домой, на Волгу, на Дон. А на дороге Астрахань — город с пушками, Черный Яр — город с пушками, Царицын — город с пушками, везде стрельцы. В Астрахани стоял уже «Орел» — царев корабль многопушечный. И в море, у острова Четыре Бугра, встретил Разина на нескольких кораблях второй астраханский воевода князь Львов, Семен Иваныч, и объявил:
— Коль сдадут казаки пушки да оружье да атаманов бунчук, так пропустит их князь Прозоровский-боярин на Дон миром.
Принял условия Разин, и в августовский яркий день по Волге к Астрахани по зеркальной воде подплывали десятки разинских стругов, за ними взятые персидские корабли— нарядные, увешанные пестрыми коврами, на шелковых цветных парусах. Разин шел впереди, как победитель, на большом струге под золотым парусом, на мачте в ветре вились цветные ленты. Народ астраханский дивился, ахал, толковал на разные лады — какое счастье! Разинские люди оставили струги на Волге, на острову, и запрудили все торжки и базары, одетые все «как короли»[169], в бархатных, шелковых, затканных золотом кафтанах с драгоценным оружием в самоцветах, с венцами на шапках из жемчугов и камней, и разбазаривали мешки с драгоценностями.
Сам атаман прохаживался по Астрахани, стоял на берегу, крутил ус и, глядя на царский корабль великий с пушками «Орел», усмехался. Донские казаки при встрече со своим атаманом били челом в землю, величали его «батькой», смотрели, как пышно гуляли да пьянствовали с ним, с атаманом, астраханские воеводы да стрелецкие головы. Над алой вечерней Волгой песни, трубы, гульба, стрельба… До нынешнего дня помнит народ, как Разин бросил в воду, жертвой Волге за свою удачу, персидскую красавицу, свою любовницу. Брата ее он подарил боярину и воеводе князю Прозоровскому.
И пошел Разин по Волге, на Дон, а по рекам, лесам, степям кругом его катилась взводнем молва о его счастье-удаче, и с ним плыли на лодках, к нему бежали пеше, рвались, скакали на конях тысячами гулящие люди, жаждавшие счастья, богатства, добра, теплой правды и горячей мести жестоким боярам, дворянам и их приказчикам.
Вернулся на Дон Разин, и хоть стал своим городком, а был словно атаманом Войска Донского: велел он донским казакам бросить в Дон царского посла с Москвы Герасима Евдокимова, посланного, чтобы уговорить казачество…
И бросили! Утопили!
Слава о Разине Степане бежала по всей Волге и Дону, зарницами сверкала вполнеба над всей Московской землей. Не только простые люди, к Степану бежали и выборные от восстающих черных людей — от крестьян, от посадских, от гулящих людей с разных мест, бежали и расстриженные Никоном попы — поп Савва да поп Пимен, бежали изверженные монахи, бежали приказные люди, бежали и слободские казаки, и черкасские люди с обеих Украин. Грамотеи писали и слали грамоты во все стороны…
Чтобы разгуляться народному гневу, простору тут было куда больше, чем на Красной площади, чем в селе Коломенском. Бесконечны раскинулись степи да лесостепи с сосновыми борами да с шумными дубравами между Волгой и низовьями Дона, с одной стороны, да с другой — реками Северным Донцом, Цной, Окой, прорезанные, что древесный лист, казачьими реками Хопром, Медведицей, Иловлей, Инсарой, Рудней, Алатырем, Свиягой.
В этих полуденных, жарких местах были видны на небе и багровые отсветы грозных северных сияний, полыхавших над Белым морем, над Соловецким, новгородского строения монастырем, проклявшим патриарха и отказавшимся молиться за неправедного царя. Из Соловков братия слала всюду свои послания и призывы. В степи доходили вести об великих уходах народа к отоку полунощного моря да в дремучие леса. Видно было всюду въяве, что качнулась, шатнулась сама земля, рождая в тысячах сердец тревогу, заставляя людей озираться вокруг, ища взглядами того, кому суждено вести эту силу.
В степях, буграх, холмах, реках, в плавнях, в черных дубравах, в зеленых рощах, все разрастаясь, набирая блистательные подробности, росла молва об Степане Тимофеевиче как о народной надеже, о его могучем росте, его силе, гордом соколином взгляде, о его удали и дерзости, а главное — о его счастье-удаче.
И с Дона во все стороны облетали слухи: выйдет-де снова атаман со своими казаками к работным людям с Дону, да пойдет он не к персам на Каспий, а на боярскую Москву.
Над Москвой белый морозный туман, висело яйцом красное солнце над Кремлем, когда Тихон Васильич Босой въезжал в столицу по Ярославской дороге. Он быстро выглянул из возка — подъезжали к Сретенским воротам Белого города; старая икона на беленой башне вся заиндевела, слюда протаяла только против красной лампадки — оттуда смотрел острый нос да строгий глаз угодника. Увеличенные караулы стрельцов в овчинных тулупах сверх кафтанов прятали белые бороды в закуржавевшие оплечья овчинных тулупов, мужики с обмерзшими бородами, бабы с закутанными в платы лицами, сплошь, почитай, в нагольных шубах и полушубках, в краснопятых валенках бежали в одну сторону — к Кремлю.
С десяток годов не бывал Тихон Босой в Москве, с той самой поры, как помер чумой Кирила Васильевич и отец отослал его в Сибирь, а брата Павла — в Москву. Скончались теперь и отец и Павел, и пришлось Тихону ехать в Москву — на его плечи ложилось огромное, само собой развернувшееся их артельное дело. Склады да счетные избы Босых стояли в Архангельске, в Москве, в Верхотурье, в Тобольске, Сургуте, Томске, Красноярске, Кузнецке, Енисейске. За Байкал, до самого Нерчинска, ходили их приказчики и работали договоренные покруты — торговцы и добытчики. Сотнями возов перед весной в Сибирь уходили их обозы с товарами, оборачиваясь назад в два, иной раз в три года, их артели работали на всех главных сибирских путях и реках. Торговля уходила, проникала все дальше в богатые просторы, шла за первопроходцами, доставляла туда хлеб охотникам, железо, сохи, пилы, серпы, топоры садившимся на землю пашенным людям, городовой товар, утварь, одежу, обувь местному и русскому населению, всюду туда, куда стремительно уходил к вольной жизни, к свободному труду предприимчивый мирный черный люд. И вместе с тем работали Босые, как и другие северные семьи, не на отшибе от своего государства. Они увязывали государство, как железные обручи вяжут клепки на бочке. Их работа была экономической основой, на которой стояла политика Кремля.
Тихон возвращался теперь в Москву постаревшим, но все же прошлое тянуло его к себе, как глубокий колодец… Вот он тут, у Воскресенского моста, хватает за повод царского коня, падает тогда в воду… Вот на него орет в исступлении, высоко занеся плеть, казненный Плещеев… Он улыбнулся даже: нет ведь уж никого из них, прежних обидчиков! Вот он в разгромленном доме Ряполовского стоит перед княгиней Анной, вот ее лицо, залитое слезами. Что сделаешь, сила, сила неразумная, ломит она людей, губит, дуром все в раззор ведет. А ведь сколько всего! Князь Ряполовский, покойный, ему, Тихону, жизнь сломал, отнял у него Анну и сам погиб под ядром. Вдова-то княжья, поди, одна на Москве? Постарела, бедная, тихо, поди, живет?