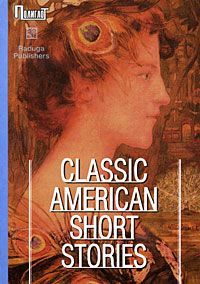Каким мрачным и унылым показался мне день после того, как она оставила меня в одиночестве! Ах, Бенедикта, Бенедикта! Что же ты сделала со мной? Почему служение Богу, которое, я знал, и есть мое истинное призвание, вдруг утратило свою привлекательность, и мне захотелось остаться здесь, в этой глуши, навсегда — с тобой!
Жизнь здесь, в горах, оказалась вовсе не такой уж невыносимой, как думалось вначале. Я привык к своему уединению. Эта горная страна, поначалу внушавшая мне ужас и уныние, постепенно открыла свою красоту и добрый свой нрав. Она была прекрасна в своем величии, а строгая красота ее возвышала и очищала душу. Каждый день, выкапывая корни или занимаясь каким-нибудь другим делом, я не уставал вслушиваться в голос первозданной природы и чувствовал, как совершенствуется душа моя, как она очищается от скверны.
Никогда в этих горах я не слышал певчих птиц. Здешние птицы не умеют петь, только кричат — хрипло и отрывисто. И у цветов нет запаха, но они поразительно прекрасны и переливаются всеми цветами радуги. Видел я здесь места, где едва ли когда-нибудь ступала нога человека. Они казались мне священными, исполненными таинственного смысла и девственно-чистыми, неизмененными с той поры, когда их изваяла рука Создателя.
Поражало великое изобилие этих мест. Серны на склонах гор перемещались такими огромными стадами, что порою казалось — движутся сами горы. Встречались там горные козлы, большие и гордые, но — благодаренье Господу — я ни разу не встретил медведей. А сурки играли вокруг меня, доверчивые, как котята. Орлы, благороднейшие из здешних обитателей, гнездились на утесах так высоко, что выше уже невозможно.
Устав, я падал в альпийские травы — такие душистые, в отличие от цветов, что с ними едва ли сравнятся изысканные благовония. Я закрывал глаза, слушая, как ветер шепчет в стеблях, и сердце мое исполнялось мира и покоя.
Каждое утро к моей хижине приходили женщины с фермы. Об их приближении я всегда узнавал загодя, по голосам, радостно звеневшим в чистом горном воздухе, и эху, многократно отраженному от склонов гор. Они несли мне пищу: молоко, масло, сыр. Встречи наши были коротки — поговорив о пустяках, они уходили. Но именно от них я узнавал о том, что случилось в горах и что происходит внизу, в долине. Они всегда были счастливы и веселы и с радостью ждали наступления нового воскресного дня, когда утром, принарядившись, пойдут к торжественной мессе, а вечером будут танцевать с дружками-охотниками.
Однако, увы, и эти счастливые люди не были свободны от греха судить ближних своих, судить о них по слухам и судить несправедливо. Они рассказывали мне о Бенедикте — называли ее порочной девкой и (сердце мое протестует против этих слов!) любовницей Рохуса. Позорный столб, — говорили они, — самое место для таких, как она.
Я с трудом сдерживал свое негодование, слыша, как жестоко и облыжно говорят они о той, кого так мало знают. Я понимал, что речи их рождены неведением и мягко пенял им на это. Неверно, — говорил я, — осуждать человека, не выслушав его. Не по-христиански говорить о человеке плохо.
Они не понимали. Их удивляло, что я защищаю Бенедикту — существо, которое (они доподлинно знали: «все об этом говорили!») подвергнуто всеобщему позору и осуждению и у которого нет ни одного друга и заступника.
Утром я отправился на Черное озеро. Истинно говорят, что это — страшное и проклятое место, годное только для обуянных дьяволом. И здесь живет бедное, несчастное дитя! Я подошел к хижине и через окно увидел огонь, горевший в очаге, и чайник, висевший над ним. Бенедикта сидела рядом на маленьком стульчике, устремив взгляд в огонь. Лицо ее было освещено багровыми отблесками, и я увидел следы слез на щеках.
Я не хотел быть свидетелем ее тайной скорби, а потому поспешил дать ей знать о своем приближении, окликнув по имени. Она поднялась и подошла приветствовать меня, а я начал говорить, нимало не задумываясь, о чем речь моя, поскольку говорил только для того, чтобы дать ей время успокоиться. Я говорил с ней так, как брат мог говорить с сестрой, а может быть, и искренней, потому что сердце мое полнилось состраданием.
— Бенедикта, — произнес я, — мне ведомо твое сердце, и я знаю, что в нем больше любви к этому дикарю Рохусу, нежели к благословенному и возлюбленному Господу нашему. Я знаю, как стойко ты переносишь позор и небрежение, и лишь мысль о том, что ему известно о твоей невиновности, поддерживает тебя. У меня и в мыслях нет осуждать тебя, ибо что может быть чище и святее девичьей любви? Но мой долг — защищать тебя, и потому я должен предупредить — ты заблуждаешься.
Она внимала мне, опустив голову, и молчала, но я слышал ее горестные вздохи. И я видел, что она дрожала.
— Бенедикта, — продолжал я, — чувство, живущее в твоем сердце, может погубить тебя. Молодой Рохус — совсем не тот человек, который назовет тебя своей женой перед Богом и людьми. Почему он не защитил тебя тогда?
— Его там не было, — произнесла она, подняв голову и вглядываясь в мои глаза. — Он и его отец были тогда в Зальцбурге. Он ничего не знал.
Прости меня, Господи, но я не ощутил радости, узнав, что тот, другой, неповинен в тяжком грехе, в котором я его винил. Некоторое время я стоял неподвижно и безмолвно, опустив голову.
— Но, Бенедикта, — наконец продолжил я, — подумай, возьмет ли он в жены ту, чье доброе имя запятнано в глазах его семьи, родственников и знакомых? Нет, он ищет тебя с недоброй целью. О, Бенедикта, доверься мне!
Но она молчала, и я не смог добиться от нее ни слова. Казалось, она вообще не в состоянии была говорить — дрожала и тяжело вздыхала. Я видел, что она слишком слаба и не может бороться с искушением любить Рохуса. Я видел, что она всем сердцем приросла к нему, и душа моя преисполнилась жалости и скорби — жалости к ней и скорби о себе. Я чувствовал, что сила моя неравна той тяжкой обязанности, что возложена на меня. И сознание собственного бессилия так остро пронзило меня, что я едва сдержал стон.
Я покинул ее жилище, но не вернулся в свой дом. Много часов я блуждал по безлюдным берегам Черного озера — без цели, без смысла.
Горько было сознавать свое поражение, но еще горше — что моя мольба к Богу даровать мне благодать и силу — безответна. Значит, Господи, я оказался негодным Тебе слугой… И осознав это, я вдруг еще острее, чем когда-либо, понял земную природу своего чувства к Бенедикте и всю страшную глубину его греховности. Я с ужасом ощутил, что не отдал всего сердца своему Богу, как должно, но привязан к мирскому, суетному и невечному. И стало мне совершенно ясно, что даже если я смогу изгнать земное из своей любви к ней, и чувство мое к невинной деве очистится от скверны страстей, даже тогда не снизойдет на меня Божья благодать, и вечно — пока я жив — под внешним обличием монаха будет таиться грешник. Так мучительны были эти мысли, что в отчаянии я рухнул на землю, в полный голос призывая на помощь Спасителя.
— Спаси меня, Господи! — кричал я. — Я обуян страстями, спаси меня, о, спаси! Или душа моя погибла навеки!
Всю ночь я тяжко страждал и молил Господа и сражался против дьявольских страстей в душе своей, уповая на защиту Святой Церкви, — я, слабый сын ее. Но шептали мне дьявольские голоса:
— У Церкви достаточно слуг… Ты не годишься для жизни аскета… Избавься от монашеской рясы, отрекись от обетов и останься здесь, в горах, мирянином. Не много времени пройдет, и станешь охотником или пастухом, и всегда сможешь быть рядом с Бенедиктой, сможешь защитить и направить ее, сможешь победить ее любовь к Рохусу, и она станет тебе верной женой.
Я собрал все свои силы, чтобы побороть дьявольское искушение и выдержать это испытание. Ночь была длинна, а схватка — долгой и изнуряющей, и не раз в ночной тьме дикие горы оглашались моим мучительным криком, и не однажды я был почти побежден дьявольским искушением и почти сдался, но рассвет нового дня укрепил мои силы, и я выстоял. В сердце моем воцарилось умиротворение, словно лучи солнца проникли в него так, как они заливают золотым светом горные ущелья, вытесняя мрак, туман и уныние. Всеми мыслями своими я обратился к страданиям и мучительной смерти Господа нашего — Он умер во спасение мира — и горячо молился, чтобы Небеса даровали мне великое благо — умереть так же, как умер Он, пусть цель моя и будет неизмеримо скромнее — спасти одну несчастную страждущую душу — Бенедикту.
Да услышит Господь мою молитву!
В воскресенье ожидался большой праздник, и к вечеру склоны гор осветились огнями костров — это работницы горных ферм звали своих дружков из ближних деревень в долинах подниматься к ним и встретить праздник вместе. Они пришли, их было много, и очень скоро окрестные горы огласились смехом и веселыми криками, всю ночь звучали песни, хохот и женский визг. Юноши и девушки танцевали вокруг костров. Языки пламени окрасили багровым склоны гор, и на них плясали огромные черные тени. Это было прекрасно и удивительно. Да, воистину, все они — счастливые люди.