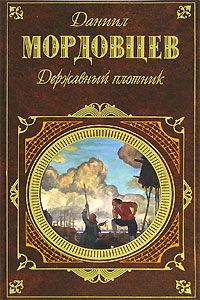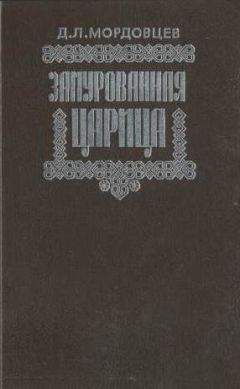– Это, сыночек, Ильмень-озеро.
– Ильмен-озеро… Ишь какое! А какая вон, мама, церква?
– То, дитятко, Перынь-монастырь.
«Далеко, далеко Ивану московскому до Новгорода Великого, не досягнути, руки коротки! Ковшом моря не вычерпаешь – Москвою Новгорода не изымаешь…»
– Чаровнице-ту и цвет папоротника в руки даетца.
– А единова мужик искал ночью под Иванов день коня… конь сбежал у нево. А цвет папоротника и запади ему в лапоть… И видит он под землею клады великие – злато и серебро…
– Суши весла! – раздался вдруг повелительный голос кормчего, которым был сам Димитрий, старший сын Марфы, недавно возвратившийся из посольства, от короля Казимира.
Гребцы разом взмахнули веслами – и насад, силою прежнего хода, ровно и тихо подошел к берегу.
– Выноси на берег поминки! Да с осторогою.
Кинули на берег сходцы. Марфа, держа за руку внучка и сама поддерживаемая Федором, сошла с насада на землю и перекрестилась. За нею сошли другие члены ее семейства и некоторые из челяди – «старая чадь». Остальная челядь и гребцы стали выносить из насада на берег монастырские «поминки» – богатый вклад монастырю, привезенный Марфою.
Вынесли на берег, вернее, выкатили бочку беременную романеи на утешение братии, бочонок вина «алкану», бочонок «бастру красного»; там потащили «ягоды изюмны», «кардамон», «ядра миндальны», пшено сорочинское для кутежей поминальных… всего навезла благочестивая вдовица Марфа братии монастырской, чтобы братия молилась о ее здравии и спасении и «о во всем благом поспешении…» А об этом обо всем никто не знал не ведал – знала только ее грудь да постель немая, да еще знал и ведал обо всем этом ее друг нынешний, милый ладо, князь Михайлушко Олелькович…
«А об ладане-то росном да про воск на свечи я и забыла, – спохватилась Марфа. – Ах, я грешная! Затмил помыслы тот… далекий уже… невесть куда сгинувший… окаянный…»
И снова в тревожной памяти промелькнул каменистый берег Волхова, а на берегу – эта таинственная девушка с травами и цветами в руках и с отсвечивающею на солнце льняною косою…
«Так это она!.. Вон кому он дал свои волосы, свои брови, свои очи змеиные… Добро, Иванушко, добро, бес-прелестник?.. А я еще тебя ради Киев покинула… О! На том свете сосчитаемся!»
– Оповистуйте братии, что Марфа-посадница пожаловала… А се что за насад? Откуду?
От Ильменя, быстро, на двенадцати веслах, словно птица, несся насад – меньше того, на котором приехала Марфа. Гребцы на нем работали с такою порывистостью и напряженностью, что и лица их, и волосы, и рубахи были мокры от поту.
– Куда путь держите, люди добрые? – окликнули их с берега.
– Из Русы – в Новгород. А это чей насад?
– Марфин… посадничей… Борецкой.
– И сама Марфа тутай?
– Я – Марфа, – был ответ.
– Правь к берегу! Живой рукой!
Сделав на всем бегу полуоборот, бежавший с Ильменя насад быстро пристал к берегу. Из насада вышел молодой боярин с русой бородкой и с серьезными, задумчивыми глазами.
– А! Князь Василей! Слыхом не слыхать, видом не видать…
– Матушке Марфе много лет здравствовать!
– Спасибо, княже… Каково ради промысла так поспешаешь?
– Воинскаго ради чину – с вестями… Москва на нас идет!
Марфа отступила назад. Глаза ее сверкнули. Краска заметно отливала от щек.
– Москва… так наглостно… без разменных грамот?..
– Воистину, госпоже, наглостно…
– А кто воеводы и куда рати идут?
– Воевода Василий Федоров сын Образец да Матвеев сын Тютчев Борис с первым полком погнали на Двину, а другой полк с князь Данилою княжь Димитриевым Холмским прямит на Русу да на Великий Новгород…
– На Новгород!.. Не быть сему!
– Да третий, госпоже, полк с князь Васильем княжь Ивановым Оболенским-Стригою да с подручником московским с царевичем татарским Даньяром да с касимовским царем с Дамианом…
– Святая Софья! Премудрость Божия! Заступи град твой!
Словно зимним холодом обдало и тело ее и душу… А готов ли Новгород? Где его рати? Где рати короля Казимира? Где этот князь – этот Олелькович? Кто отстоит Святую Софью и честь великого города?..
А тут… проклятое видение на берегу – эта льняная коса, эти змеиные очи и этот хватающий за душу голос песни:
Почто ты, калина, не так-такова,
Как весеннею ночкой была?..
А разве она сама, Марфа, такова, как тою-о!.. дивно прошедшею и вечно памятною весеннею ночкой была?.. Не воротиться этим ночкам весенним! А устоять ли Новгороду?..
– Баба-баба! Смотри, какую мартын большую рыбу поймал!
Глава VII
«Начала Москва!»
Марфа недолго оставалась в монастыре. Отслушала обедню, приложилась к иконам и, простившись с братнею, тотчас же отплыла обратно в Новгород, куда раньше ее должен был прибыть вестник войны князь Шуйский-Гребенка. Она отложила поездку свою и в Хутынский, и в другие монастыри, куда собиралась тоже на богомолье. Дела призывали ее в Новгород.
Всю дорогу она почти молчала, рассчитывая в уме своем возможные последствия сложившихся обстоятельств… Нет, на волю новгородскую пускай никто не наступает… Положи московскому Иванушке Новгород мизинец в рот – он и голову проглотит, и Святую Софию, и вечевой колокол с Корнилом-звонарем…
Она не замечала, как несся ее насад вниз по течению Волхова, как уходили назад синие рощи.
Только у старых каменоломен, недалеко уже от Новгорода, она неожиданно выведена была из своего раздумчивого состояния. На правом берегу, отчетливо вырисовываясь на глубоком фоне горизонта, опираясь на клюку, стояла какая-то старуха. Пасмы ее седых волос выбивались из-под повязанного платком старого головника с рогами и трепались по ветру. У ног ее сидела та же, уже виденная ею, льняноволосая девушка, окруженная травами и цветами.
– Гляди! Гляди на нее! – хрипло, но громко сказала старуха, обращаясь к девушке и показывая на насад, который в эту минуту как раз поравнялся с ними. – То она… Марфа-посадница!
Удивленная девушка вскочила на ноги:
– Бабушка! Я знаю ее…
– Не знаешь!.. Это змея подколодная… Одна я ее знаю…
И старуха, подняв клюку, погрозила насаду.
– Помни меня, Марфа! – резко прокричала она. – Помни кудесницу!.. А ее, – она указала на девушку, – вспомянешь в ину пору!
Марфа сидела бледная, безмолвная. Испуганные гребцы еще сильнее налегли на весла – страшная старуха скоро скрылась из глаз.
В Новгороде уже говорил вечевой колокол и разносил еще неизвестную, но тревожную весть по всем улицам и по ближайшим монастырям с посадами. Корнил-звонарь усердно работал железным языком, прислушиваясь к трепетным и вопящим крикам своего любимца, а испуганный ворон делал большие круги над колокольнею, поднимаясь все выше и выше к глубокому, безоблачному небу.
Вечевой колокол почти не умолкал несколько дней. Новгородцы готовились встретить врага, и потому каждый день шумело вече: то сгоняли к ратному делу гончаров, рыбников, плотников, лодочников; то унимали худых мужиков-вечников, которые с дубьем, вилами и косами порывались идти сами не зная куда и бить не ведая кого, и горланили «разнесем-ста таких распроэдаких», и так далее, и тем крепче и все трех- и четырехъярусными словами; то метали с мосту «супротивников» и «переветников», то всем Новгородом валялись ничком и слезно голосили перед Знаменской Богородицей, прося ее заступы; то ставили свечи, чуть ли не в оглоблю величиной, у гробов прежних владык, охранявших своими молитвами новгородскую волю… Новгород стонал голосами, бабы выли, а им вторя, заливались собаки…
Все казалось зловещим и необыкновенным… Новгородское небо, всегда дождливое, теперь, в течение всей весны, не посылало ни одной тучки с дождем на новгородскую землю. Новгородские болота, по которым ни татары, ни московские люди не могли, бывало, со своими ратями добраться до Новгорода, теперь попересыхали. По ночам сами собой звонили колокола, выли собаки и каркали вороны. Из сухой старой «деки», на которой написана была Знаменская Богородица, из глаз Богоматери текли слезы, и знаменский пономарь Акила, приятель Упадыша, сказывал, что слез этих, накапало целую дароносицу. Бабы в Неревском конце слышали, как ночью что-то летело по аеру над Людиным концом и плакало. Другою ночью некий человек, проходя с Торговой стороны на Софийскую по мосту, видел дивное видение – «два месяца на небеси, зело страшны, хвостаты, и ударилися те месяцы вместе, и один у другаго хвост отшиб, и тот месяц отшибеной хвост приволок к себе, и знати стало на месяце том как перепояска…»
– И то знамение к тому явися, – толковал на вечевой площади Упадыш, – что Москва у Новгорода хвост отшибет.
– Брешешь, рудой пес! Мы у поганой Москвы отшибем хвост и посшибаем у нее рога.
– А я, братцы, зрел таковое знамение, – ораторствовал один рядской говорун. – На новцы[56] явишася два месяца рогаты, рогами противу себе, один повыше, а другой пониже, и сшиблись рогами – страх!