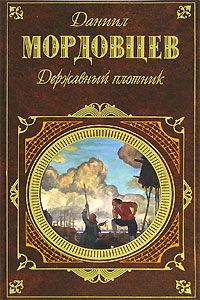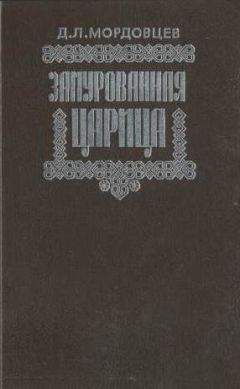– Ну и что ж – кто ково зашиб?
– Не вем, братцы, не дозрел конца: оболочко на месяцы набежало.
– Эка малость! Маленько бы подождать…
– А я вам скажу, господо, таково диво, – ввернул свое слово известный озорник Емеля Сизой. – Я видел, как карась в Волхове щуку сглотнул…
– Ври, ври пуще! – засмеялись слушатели.
Все время, пока собирались новгородские рати, Упадыш то и дело шептался с московскими сторонниками и часто пропадал из города. Нередко видели, как он пробирался к старым каменоломням, а иногда замечали, что к нему по ночам приходила какая-то женщина, но всякий, кто видел ее, тотчас убегал, боясь, что это «очавница» и что она может напустить лихую немочь, а то и самого беса…
Наконец рати собраны как собственно по Новгороду, так и по ближайшим пригородам и все стянуты к сборному месту. Новгородское войско разделилось на два полка – конный и пеший. Первый должен был обогнуть вдоль западного берега Ильменя и явиться у Коростыня. Пеший же полк должен был сесть на суда и плыть к Коростыню Волховом, а потом Ильменем.
Весь Новгород вышел провожать своих воинов. Владыка и все новгородское духовенство вышло с хоругвями и иконами. Ратники были окроплены святою водою. Проводы сопровождались плачем детей и причитаньями жен и матерей.
Старший сын Марфы-посадницы в качестве одного из воевод пешего полка, сопутствуемый своими подручниками – Арзубьевым, Селезневым-Губою и Сухощеком – блистал, словно новая риза на иконе, своими латами, кольчугою и дорогим шлемом с золоченым «еловцом» наверху. Бледное, матовое лицо его, окаймленное шлемом и чешуею, казалось юным и восторженным.
Мать плакала, благословляя и целуя его. Слезы гордой, честолюбивой женщины, припавшей к груди сына, падали одна за другою на блестящие латы, оковывавшие молодую грудь ее любимца, и скатывались на землю как крупные жемчужины…
Давно ли, казалось, она держала его, маленького, у себя на коленях, а он играл ее дорогим ожерельем?
– Не плачь, матушка, не скорби, – утешал ее сын.
– Ох, сыночек, прискорбна душа моя…
– Не кропи слезами моих лат, родная, – потускнеют.
– Ох, сама ведаю, дитятко: горьки слезы матери, что ржа проедят они латы твои…
– Марфа! Марфа! – прокаркал ворон, кружась над хоругвями.
Марфа вздрогнула… «Что он вещает, Господи!» Глаза всех невольно обратились на вещую птицу. Владыка осенил ее крестом…
– Вещай на добро, птах божий! – проговорил он.
– Варлам! Варлам! – казалось, отвечала странная птица.
А с вечевой колокольни с любовью и умилением следили за вороном и за всем происходившим на берегу Волхова блестевшие старческими слезами глаза вечного звонаря.
– Фу-фу-фу, сколько детушек у Господина Великово Новагорода! Сколько стягов, сколько насадов!.. Не видать поганой Москве Новагорода как ушей своих… Кричи, кричи, Гаврюшенька! Каркай славу Великому Новугороду!
– Новгород! Новгород! – как бы отвечая звонарю, безмысленно каркала птица заученные слова.
Владыка знаком подозвал к себе воеводу конного полка, седобородого боярина Луку Климентьева. Воевода подъехал к Феофилу, проворно соскочил с коня, звеня сталью своей кольчуги и оружием.
– Преклони ухо, Лука, – тихо сказал владыка.
Воевода почтительно нагнул голову как для благословения.
– Помнишь, Лука, мой наказ? – по-прежнему тихо спросил Феофил.
– Не забыл есми, владыко.
– Помни же, сын мой: егда сойдутся рати в поле, рази токмо окаянных псковичей, а на княжой полк не води мой полк, не благословляю на сие…
– Будет по глаголу твоему, владыко.
– Корнил! Корнил! Корнил! – каркал ворон.
– Ах, сыночек мой, Гавря! – умилялся звонарь, слушая свою птицу. – И меня, старика, вспомнил… А вон и Тихик блаженненькой с боярынею Настасьею… Что они везут?
Вдоль рядов пехоты два рослых парня везли тележку, нагруженную платками и холстом, а впереди шла, вся раскрасневшаяся от жару, боярыня Настасья Григоровичева, а с нею рядом слепой Тихик, обвешанный своими сумками. Они брали из тележки платки и лоскуты холста и раздавали ратникам.
– Для чево это? – недоумевали ратные люди.
– Кровушка, кровушка… Ох, много кровушки будет, – загадочно отвечал слепец.
– Добро, пригодится ширинка нос утереть…
– Кровушку, кровушку, кровушку горячую, – твердил свое Тиша блаженный.
– Мы-ста кому иному нос утрем!
Князь Василий Шуйский-Гребенка, стоявший впереди всех и разговаривавший с посадником, обнял этого последнего и грузною походкою направился к иконе Знаменской Богоматери, которую, как величайшую святыню Новгорода, вынесли перед войском и держали темным, закоптелым ликом к выстроившимся ратям. Князь Василий с головы до ног был закован в железо, и только русая бородка и серьезные глаза, выглядывавшие из-под низко надвинутого шлема, обнаруживали, что под этим движущимся железом и кольчатою сталью скрыто человеческое тело. Князь Василий был главным воеводою посылаемого теперь против москвичей передового новгородского полка.
Он подошел к иконе, три раза поклонился в землю и приложился к ризе Богоматери. Владыка, у которого дрожала рука, покропил его святой водой.
К воеводе подвели рослого вороного коня, который нетерпеливо рыл копытом землю и пенил удила. Воевода медленно сел на него и в сопровождении подручных воевод стал объезжать ряды.
– Постоим, братие, за Святую Софию, за домы свои и за волю новогородскую! – то и дело обращался он к войску.
– Утрем пота за Святую Софью! – отвечали ратные.
– Положим головы за волю новогородскую! Ляжем костьми!
– Не посромим Господина Великово Новагорода!
По знаку воеводы затрубили рога, загудели гудки, заколотили бубны.
– В насады! В насады! – прошло по рядам.
Войско двинулось к насадам, которые покрывали весь Волхов по ту и по другую сторону «великого моста». Бабы и дети снова взвыли.
– Фу-фу-фу! – радовался с колокольни вечевой звонарь. – Полетели пчелки для своея матки медок добывать… Фу-фу-фу, сила какая!
Марфа в последний раз обняла сына… «Митя… соколик мой… золото червонное… о-о-ох!» – И острое, нехорошее чувство шевельнулось у нее в груди против того статного, черноусого «хохла», который обнадеживал ее литовскою помощью… «Аспид пучеглазый!..»
– Баба! Баба! – теребил ее за подол маленький Исачко. – По ком ты плачешь?.. И я заплачу…
– Новгород! Новгород! – отчаянно каркал ворон, взбудораженный необычайным движением и плачем.
Скоро насады, наполненные ратными людьми, уже пенили гладкую поверхность Волхова тысячами весел, а оставшиеся новгородцы и пригорожане, большею частью бабы и дети, двигались берегом, провожая глазами своих «лад милых» и махая усталыми руками все далее и далее уходившим насадам.
Марфа тоже стояла заплаканная, провожая глазами стяг, который тихо полоскался в воздухе над воеводским насадом, умчавшим ее дорогого Митю на кровавый пир. И ей невольно вспал на память таинственный сон, виденный ею этою ночью, – сон, в котором ее суеверный ум угадывал что-то пророческое, страшное, но что – она не знала… Ей снилось, что она стоит на вечевом помосте и слышит у Святой Софии похоронный перезвон и жалобное причитанье многих женских голосов. Она спрашивает – кого хоронят, и ей отвечают, что хоронят волю новгородскую… Она торопится с помоста, чтобы посмотреть на похороны, но в этот момент у нее на шее разрывается дорогое ожерелье и крупные жемчужины рассыпаются по земле. Откуда ни возьмись куры, и – клевать ее жемчуг… «Несут-несут», – слышит она голоса и видит, что люди несут гроб, а в гробу лежит она сама, Марфа, и за гробом идет та льняноволосая девушка, которую она недавно видела за городом, на берегу Волхова, обсыпанную цветами и зеленью, и голосно причитает: «Матушка родимая! На кого ты меня, сиротинку, покинула…»
– А мне батя посулил привезти пряник московской – во какой, – бормотал между тем маленький Исачко, теребя ее за подол.
А издали, с насадов, уже доносилась голосистая, как бы заунывная, раздумчивая песня:
В Новегороде ли было на Софийской стороне,
Раззвонился, братцы, раскричался вечной колокол:
Уж и чтой-то, братцы, у нас в Новегороде нездорово…
Конный полк тоже уже давно взбивал облака пыли за городом. В облаках пыли трепались новгородские стяги, поблескивая на солнце золочеными яблоками, крестами и унизанными разноцветным каменьем ликами угодников, изображенных на широких полотнищах знамен. Это был владычний полк, предводительствуемый благочестивым боярином Лукою Клементьевым.
Насады между тем, сверкая в воздухе бесчисленными веслами, словно крыльями, быстро подвигались к Ильменю. В воздухе, на всем пространстве, занимаемом этою флотилиею, носился говор и гул тысяч голосов, и все эти голоса покрывала заунывная, хотя и удалая мелодия:
Разыгралось, расплескалось, братцы, Ильмень-озеро,
Расходились, разусобились люди новгороцкии,
Выходила ли Торговая сторона на Софийскую…
– Глянь, братцы, опять на берегу очавница…