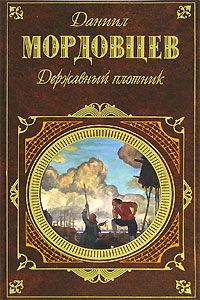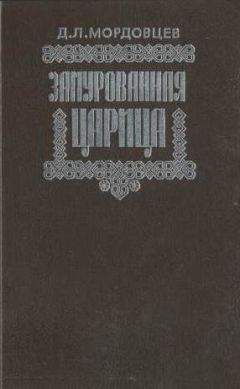– Ты бы, ладушка, сыграла что.
– Не до игры мне, Петра, не к поре…
– Ничевошно… Легче бы на сердце было… Ты бы «Калину»… Ноне Ярилина ночь! Сыграй:
Почто ты не так-такова,
Как в Ярилину ночку была…
– Бог с тобой, Петра.
Но Петра, по-видимому, не о песне хотел бы говорить, да не смеет… «Эх, зазнобила сердечушко!..»
– А вить наши новугороцки рати осилят Москву.
– Про то Богу видомо, Петра.
– А обидно таково.
– Что обидно?
– И я собирался вить на рать, да мать не пустила… А чешутся руки на Москву кособрюхую!
– Молод ты еще.
– Како молод!
Опять помолчали. Парень выбивался из сил, видимо изнемогал.
– Дай, Петра, я погребу.
– Что ты! На кой?
– Ты ослаб, а еще далеко… Садись к правилу.
– Где тоби!.. Твоя сила – дивичья, не мужичья.
– Я обыкла грести – у меня силища в руках.
– Ну, болого, будь по твоему хоченью.
Девушка оставила руль, встала и направилась к веслам. Парень и любовно, и несмело глядел на нее. Но девушка разом остановилась как вкопанная, уставив испуганные глаза на далекий горизонт, из-за которого выползали не то темные облака, не то клубы дыма. Они слишком скоро изменяли положение и форму и слишком явственно волновались, чтоб их можно было принять за облака. Казалось, кто поддувал их снизу и они рвались к небу и как будто таяли, расползаясь по сторонам.
– Ох господи!.. Что тамотка, Петра!
– Что?.. Что узрила, ладушка?
– Ни оболоки, ни дым… Как живые по небу мятутся.
Парень встал, повернулся лицом вперед и долго смотрел на волнующиеся клубы дыма.
– Горит там что, Петра?.. Пожар?
– Може, пожар, а може, леса горят – не впервой.
– Ох, не леса – жилье горит… То люди, то Москва огни распустила…
– А може, и Москва… Она, проклятая, что твой татарин…
– Так мы опоздали?.. Господи! Помилуй!
– Для че опоздали!.. Нагоним живой рукой…
– Ох, не нагоним, соколик!
Девушка быстро схватила в руки весла, метнула их в воду, налегла раз, два, три – и лодка затряслась и запрыгала под сильными взмахами весел. Откуда взялась сила в молодом существе, которое за минуту казалось таким тихеньким и слабым…
– Ишь ты… ай да ну!.. Ай да дюжая! – любовался и недоумевал парень.
Лодка неслась быстро, а еще быстрее летела северная весенняя ночь – ночь Ярилы. Восточная половина неба становилась все яснее и яснее, и тем отчетливее двигались по небу, как живые, клубы дыма, верхние слои которых уже начинали принимать бледно-алые оттенки.
Вот-вот настанет утро, выглянет солнышко, и будет уже поздно…
Девушка еще сильнее налегла на весла.
– Ну и дюжа же… Эх, чтоб тебя!
По небу, через озеро, летели какие-то черные птицы. Они, видимо, летели туда, где клубились и восходили к небу облака дыма.
Птицы обгоняли лодку…
– То воронье, чаю?
– Воронье… ишь, взапуски, умная птица…
– А для чево? Что им там?
– К солнушку. Они вот так-ту всягды… На солнушко.
– Что ты, Петра! Это не к добру. Они мертвеца чуют… корм…
Девушка задрожала. Она не чувствовала рук – точно одеревенели они… По озеру прошла рябь, что-то пахнуло в лицо… Ильмень то там, то тут становился точно чешуйчатым.
– Утренник пробег – утро скоро. Ох, не угодим!
– Не бойся, скоро и к Ловати подобьемся. Наши, поди, дрыхнут: к утру сладко спится.
И парень зевал и крестил рот. Ему вспомнился их рыбацкий шалаш: как бы теперь он славно спал, укрывшись теплым кожухом… А там заварили бы с отцом уху, похлебали бы горяченького, да и на работу… Нет, сегодня праздник – Иван Предтеча…
Виден уже был берег и выдавшаяся в озеро длинная коса, поросшая тальником. У берега стлался над водою и как бы таял беловатый туман. Дым становился багровым и медленно редел.
– Ну, вот и угодим-ста – вон берег… И туманок подымаетца…
Ах ты, туман мой, туман-туманок,
Что по Ильменю он, туман, похаживае…
– Что ты! Что ты, Петра, с ума сошел?..
Парень спохватился и перестал петь. На берегу вдруг из-за тальника выросла человеческая фигура, закутанная в охабень[58]. На голове ее что-то блестело.
Увидав лодку, неизвестный человек приблизился к берегу. Выткнувшееся из-за горизонта солнце позолотило высокий заостренный еловец его шлема…
– Эй, лодка! Кто там? – послышался оклик.
Девушка вскочила, испуганная, дрожащая. Она, казалось, глазам своим не верила, или то, что она видела, казалось ей сном, привидением. Человек в шлеме, стоявший на берегу, был не менее ее поражен.
– Горислава! Ты ли это!.. Как сюда попала?
– Греби! Греби к берегу! – торопила она парня.
Лодка пристала. Девушка, как кошка, выпрыгнула из лодки. Стоявший на берегу человек распахнул охабень, скрывавший половину его лица и рыжую бороду. Это был Упадыш.
– Горислава! Что с тобой?.. Почто сюда приехала?
– Я… я от бабушки…
– От бабушки? За коим дилом?
– Я… не от бабушки… я сама… я слыхала… ненароком… Ох, господи!
– Что слыхала? Сказывай…
– Москва… Москва там, в Русе… Она утром, отай, ударит на вас… всех посечет… Ох, что это?..
Вдруг произошло что-то необыкновенное… страшное, точно земля и небо задрожали и застонали от каких-то неистовых, нечеловеческих голосов и кликов.
«Москва! Москва!» – слышалось в этой буре, в этом раздирательном реве голосов.
Девушка, дрожа всем телом и дико озираясь, ухватилась за Упадыша да так и закоченела.
– Матушки! Что это? О-ох!
– Уходи… Уходи в лодку! Ступай, Горислава! – силился Упадыш отцепить от себя ее закоченевшие руки. – Иди в лодку – плыви дальше, не то пропадешь…
– О-ох! А ты! Что с тобой станется! О-о-о!
– Уходи, говорю! Это Москва на нас пошла…
Рев голосов между тем становился все неистовее и диче. Стучали и стонали бубны, выли рога…
«Москва! Москва! Москва! Бей окаянных изменников! Бей новгородскую челядь!»
С возвышения, тянувшегося вдоль берега Ильменя, от левого рукава Ловати, словно лес – «аки борове», по выражению летописца – лавиною двигались московские рати, блистая на солнце шеломами, еловцами, кольчугами, сулицами, бердышами и развевая в воздухе всевозможных цветов стяги, потрясая копьями и рогатинами с острыми железными наконечниками.
Новгородское войско, которое ночью пристало с своими насадами тут же к берегу, несколько правее, не ожидая так скоро неприятеля и выгадывая время, пока не пришла ее конная рать – беспечные новгородцы, повалившись на берегу, на песке или на траве, кто в насадах, спали еще мирным сном, когда услыхали, словно гром с неба, страшный московский «ясак»…
– Москва!
– Москва!
– Москва!
Новгородцы спросонья не знали, что делать, что думать, за что хвататься. Как безумные метались они по берегу и по насадам.
А москвичи уже били их, прокалывали копьями, рассекали топорами их головы – не прикрытые шеломами… А шеломы валялись тут же, на земле, – кто же спит в шеломе!..
– Уходи, безумная!.. Уходи, Горенька! – отбивался Упадыш от обезумевшей девушки.
– О-ох! ниту! ниту!.. Тебя убьют… о-о! матушки!
– Малый! Возьми ее – снеси в лодку…
– Не пойду… о-ох!.. Я с тобой помру… о-о-о!
– Тащи! Волоки ее!.. Отваливай дальше от берега!
– Иди, ладушка! Иди, дивынька! Подь, Горя! – И дюжий парень, не обращая внимания на сопротивление девушки, как медведь сгреб ее в охапку и поволок к лодке.
– Пусти! Пусти меня, Петра! О-ох!
– Не пущу! Ишь ты… не царапайся! Не пущу… ушибут тебя… Полно-ка!
А там шла кровавая сеча. Новгородцы, не успевшие со сна захватить оружие, бросались в рукопашную и с свирепостью отчаянья душили своих врагов, обвивались вокруг их ног, грызли их, как собаки, зубами, и, несмотря на то, что другие москвичи пронизывали их копьями, крошили головы бердышами, пропарывали их рогатинами – новгородцы голыми руками задавливали своих врагов, и тут же, обнявшись с ними, как с братьями, смертными объятиями, умирали разом, обагряя кровью желтый ильменский песок и зеленую прибрежную траву.
Крики, проклятия, стоны раненых и умирающих, боевые возгласы, лязг железа о шеломы и латы, визг скрещивающихся мечей и сабель, хряст ломаемых копий, рогатин и костей человеческих, проклятий нападающих и поражаемых, храп и свист перерезанных и недорезанных горл, стук дерева о дерево и железа о железо, нечеловеческие вопли удушаемых за «тайные у…» – все это сливалось в такую адскую музыку, о которой нельзя даже составить себе понятия по современным битвам, даже более кровавым и уж гораздо более разрушительным, когда и стоны, и вопли человеческие, и ржание лошадей, и проклятия раненых, и вопли задавленных конскими копытами, и визг и лязг оружия, сигнальные звуки труб – и все, все, весь ад звуков заглушается громом орудий, лопаньем разрывных снарядов, неумолчным лопотаньем тысяч ружьев… Нет, тогда, когда еще не в ходу было огнестрельное оружие, когда дрались кулаками, рвали зубами, душили друг дружку руками, резались и кололись холодным оружием – тогда смерть и ее голос, ее ужасные крики были слышнее, реальнее, ужаснее – тогда все было слышно… слышно было, как души человеческие расставались с телами и кричали, невообразимо кричали об этих телах, оставляемых ими, об этой земле, о жизни…