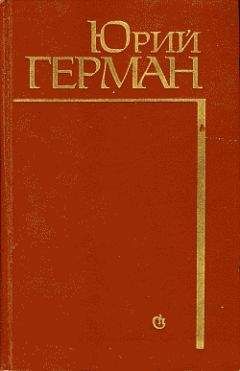Екатерина Афанасьевна – женщина умная и необыкновенно его любящая – слушала молча, имея на уме что-то свое, несогласное с его мнением. Когда он кончил, она взглянула на него из-под своего чепца и сказала, что он не прав.
– Это почему же? – спросил Мойер.
– А потому, дорогой мой друг, что только университетская деятельность может спасти вас от того состояния, в котором вы находитесь. Это говоря о вашей пользе. Что же касается до рыженького мальчика, на которого вы так осердились, то он достоин только уважения. И кабы вы видели, – улыбнувшись, добавила она, – как он тут метался, запутавшись с дверями, и как покраснел, налетев на меня. Пирогов, вы говорите, его звать?
– Да, Пирогов, – еще сердито ответил Мойер, выбрал из ящика сигару и закурил.
– Из Москвы?
– Да, из Москвы.
– Совсем молоденький… Мойер молчал.
Старуха подвинула к себе столик с пяльцами, поглядела на начатый узор и, не поднимая глаз, заговорила о том, что, по правде, следовало бы совсем иначе отнестись к такому молоденькому мальчику и уже профессорскому кандидату, что, по ее мнению, этого Пирожникова следовало бы обласкать…
– Если уж и обласкать, – стоя у окна, молвил Мойер, – то не Пирожникова, а Пирогова…
– Ну не все ли равно, – кротко сказала Протасова, – Пирогова. Вы подумайте, мой друг, приехал мальчик из Москвы, тут порядки совсем иные, живет сирота сиротою, шея, наверное, грязная, и никто не скажет… Нехорошо мы с вами поступаем последнее время, Иван Филиппович, нехорошо, за это с нас взыщется. Вы как знаете, а я этого Пирожникова…
– Пирогова…
– Ну, Пирогова, позову и обласкаю. И вот еще что я вам скажу: была бы с нами Машенька…
– Что Машенька? – от окна спросил Мойер дрогнувшим голосом.
– А то, мой друг, что она велела бы вам тотчас же вернуть мальчика, напоить его чаем с ватрушкой, а назавтра идти в университет и ради ее, если не ради вас…
Мойер обернулся к Екатерине Афанасьевне. Из-под очков его текли обильные слезы.
– Вы знаете, – сказал он, – что именем Машеньки меня можно все заставить. Завтра я пойду в университет и вернусь к прежней жизни, но знайте, что этим вы лишаете меня единственной моей радости…
– Думать о ней! – воскликнула старуха. – И хорошо, что лишаю, хорошо. Не надо о ней так думать и столько думать, я ей мать, и я вам ее именем это не велю.
На глазах ее выступили слезы, она подошла к нему, утерла платком его мокрое лицо и велела идти прогуляться.
– А с завтрашнего дня все пойдет иначе, – сказала она, – совсем иначе. И Пирогова этого мы позовем к нам в гости, хорошо? На обед? Или, может быть, на житье? Друг мой, а? Давайте поселим к себе несколько москвичей или петербуржцев…
Утром следующего дня Мойер с трудом натянул на себя фрак. За месяцы безделья он растолстел – воротнички давили шею, резали подбородок, фрак сделался тесен в проймах. С отвращением он посмотрелся в зеркало: увидел непробритые бакены, косматую прическу, золотистые волосы исчезли – всюду пробивалась кустами седина. Лицо было оплывшее, сердито-брюзгливое, очки криво сидели на носу.
– Хорош, – молвил он, – хорош, дожил…
И, стуча палкой по дощатому тротуару, пошел бесконечно знакомой дорогой к университету. Был ясный и прозрачный день ранней осени, на душе у Мойера стало вдруг спокойно и ровно, как давно не бывало, он приветливо здоровался с педелями и студентами, даже поговорил с ненавистным ему полусумасшедшим старым студентом Жако Кизерицким, прогуливающимся в крагене, ботфортах и расшитом картузике на самой маковке. Замогильным голосом Жако прочитал Мойеру монолог из Шекспира, относящийся к любви, и проводил профессора до самого деканата.
– Сколько вам лет? – на прощание спросил Мойер.
– Пятьдесят два, – ответил Жако, – прощайте, сударь.
Ничего не изменилось в университете за это время. Ректор Эверс встретил Мойера так ласково и осторожно, что Иван Филиппович долго не мог надивиться такту его великолепия, как полагалось называть ректора. Студенты кланялись Мойеру издали, поздравляли его с выздоровлением, потом прислали ему в деканат огромный букет прелестных осенних цветов с трогательной запиской в стихах. Наконец явился и сам виновник – Пирогов. Мойер встретил его улыбкой и протянул ему руку, чего делать не полагалось.
– Вот этот господин виновник моего выздоровления, – сказал Мойер его великолепию. – Что вы о нем скажете?
Эверс с молчаливой улыбкой смотрел в розовое лицо Пирогова.
Пирогов представил Мойеру Иноземцева и Даля. Липгардт еще не появлялся в Дерпте.
Короткая беседа с тремя медиками поразила Мойера не тем, как и что знал Иноземцев, которому в эту пору было двадцать семь лет, и не тем, чего не знал Даль, – беседа поразила его Пироговым, к которому он начал относиться с этого дня как к явлению еще небывалому.
Семнадцатилетний рыжий и косоватый этот юноша с удивительным девичьим цветом лица поразил Мойера не знаниями – какие там у него были знания, – не эрудицией, которой Пирогов изо всех сил старался блеснуть перед знаменитым Мойером, – какая там эрудиция у мухинско-мудровского выученика, – Пирогов поразил Мойера иным – бешеной силой своего особого, еще непонятного и неопределимого, но ясно чувствующегося злого и отрицающего ума.
Опустив тяжелые веки под очками и подперев большую голову сильной и белой рукой, Мойер с давно не испытанным наслаждением слушал тот путаный, но бесконечно интересный вздор, которым его заговаривал Пирогов. И чем дальше слушал Мойер, тем больше он понимал, что мальчик этот, не в пример многим другим мальчикам, прошедшим через его руки, думает сам, решает без чужой помощи и если выпутывается из своих диких и яростных заблуждений, то тоже сам.
Послушав Пирогова с полчаса, он сказал ему, что разговор этот они еще продолжат, что кое-что в этих мыслях интересно, но что, раньше чем решать столь кардинальные вопросы и иметь на эти вопросы свою окончательную точку зрения, следует знать более, чем знает сейчас господин Пирогов.
– Думается мне, – заключил он, – что в анатомии вы, господа, все слабы.
– Я в Харькове уже оперировал сам, – заметил Иноземцев, – ампутировал голень, а также ассистировал профессору Елинскому при его операциях.
Мойер спокойно поглядел на Иноземцева, отметил про себя его красивое лицо восточного склада, его блестящие глубокие глаза, его изящные бакенбарды, подумал, что с таким лицом можно где угодно сделать отличную карьеру, и сказал, слегка вздохнув:
– Оперировать и ассистировать – это еще не значит, к сожалению, знать анатомию. Наши хирурги зачастую занимаются своим делом, понятия не имея об анатомии. Мне приходится и посейчас наблюдать операторов, работающих вместе с анатомами, ибо они нисколько не знают строения тела. Прошу вас, господа, пожаловать завтра к восьми часам утра в анатомический театр. Я попытаюсь быть вам полезным.
И, оборотившись к Пирогову, он добавил:
– Теща моя Екатерина Афанасьевна Протасова уполномочила меня просить вас оказать честь нашему семейству и посетить нас в любое время, удобное вам по вашим занятиям.
Пирогов страшно покраснел, смешался и сказал, что он с удовольствием придет, потому что почему же не прийти, он рад прийти, но вот если бы господин профессор сам указал время, потому что ведь может так случиться, что он явится, и как раз некстати, бывают же такие истории…
Речь его оказалась очень длинной и не без претензии на легкость и бойкость, но в конце концов он запутался и замолчал.
– Приходите сегодня к обеду, – просто сказал Мойер, – и вы, господа, сделайте мне такую честь, я и моя теща будем ждать вас всех.
Обед прошел весело и совсем непринужденно. Мойер был оживлен, много и интересно рассказывал, Екатерина Афанасьевна смеялась добрым смехом, потом Даль рассказывал сказки и изображал в лицах разные сценки из университетской жизни и, осмелев, показал самого Мойера – как он рассказывает медицинские казусы. Старуха Протасова смеялась до слез, но не забывала Пирогова, сидящего рядом с ней, и подкладывала ему то пирога, то рыбы, то жаркого. Не имея никаких светских талантов, он ел за четверых и хохотал так, что свалил соусник на скатерть и весь перемазался липким белым соусом, что вызвало новый взрыв хохота, – но ему было жалко фрака, и он больше не смеялся, пока Екатерина Афанасьевна не отчистила ему с горничной девушкой все пятна.
С этого дня он зачастил в дом Мойеров и был там всегда жданным и милым гостем. Старуха его подкармливала, с охотой выслушивала его идеи и только раз навсегда запретила ему «болтать пустяки» о боге. Здесь он подолгу распространялся насчет своей семьи, насчет дядюшки – какая он прелесть, насчет покойного отца, насчет матери, тут он вслух читал все письма из Москвы и по желанию Екатерины Афанасьевны рассказывал ее знакомым старухам богаделкам о дедушке Михеиче и о том, как старик топтал зеленую траву на сто первом и сто втором году своей жизни.