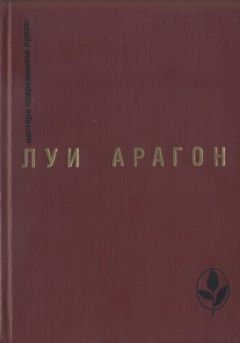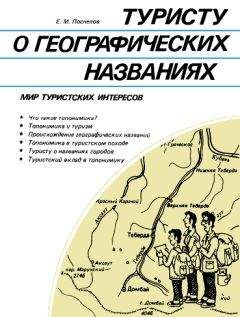— Господин полковник, видите ли, господин полковник… мы действуем согласно приказу генерала…
— Какого еще генерала?
Оказывается, это был приказ генерала Сугама, который по сговору с неприятелем отступал к Версалю, покинув свой пост, испугавшись, что императору может стать известно о вчерашних переговорах Мармона, его самого и некоторых других с австрийцами; неожиданное появление полковника Гурго, адъютанта его императорского величества, побудило генерала решиться на этот крайний шаг. Свой вызов в Фонтенбло он считал просто ловушкой. Стоя на берегу какого-то ручейка, Фавье выкрикивал что-то (что именно — Робер так и не разобрал), а генерал Сугам, сидевший на коне, монотонно твердил: «Он меня расстреляет!» Вот как была предана Франция, и император, и двадцать лет славы. Всю жизнь будет с горечью вспоминать поручик Дьедонне название этого ручейка. Он нарочно осведомился об этом у какого-то крестьянина, который, услышав конский топот, высунулся, полуголый, из окошка поглядеть на солдат. Странное название оказалось у этого ручейка. Он назывался «Булькай в дождь»…
С тех пор прошло меньше года, и вот Робер Дьедонне вновь направляется верхом в Эссон… Там его ждет ночлег. А быть может, встреча с Бонапартом. Дождь снова усилился. Как ни странно, но больше и настойчивее, чем об императоре, Дьедонне думал о «совершенном создании», о Фавье, влюбленном в эту женщину с 1805 года… уже целых десять лет… о, это, конечно, прекрасно, ничего не скажешь, но он, Робер, не создан для подобных чувств. Его молодость прошла в мимолетных и случайных романах. Интересно, кто такая эта женщина?
* * *
Третий раз в течение одного дня полковнику барону Шарлю Фавье, подпоручику 6-й роты герцога Рагузского, которую солдаты именовали для простоты «Иудиной ротой», пришлось побывать во дворце. Этот тридцатитрехлетний гигант шести футов роста, с крупным и тяжелым лицом, черноусый, с уже редеющими волосами, отчего лоб казался еще выше, с огромными глазами и длинными, загнутыми вверх ресницами, в третий раз в течение одного дня спускался с лестницы Павильона Флоры в полной парадной форме: плащ скреплен у горла пряжкой, левая пола закинута на могучее плечо, под мышкой видна блестящая каска с изображенным на ней солнцем, васильковый мундир с пурпуровыми отворотами, подбитые пурпуром полы; сверкая серебряным шитьем, спускался он по лестнице в полном смятении чувств, с отвращением пробираясь сквозь толпу сгрудившихся на ступеньках соглядатаев из полиции.
Казалось, повальное бегство придворных, покинувших этим воскресеньем Тюильри, в чем можно было убедиться хотя бы во время королевской мессы, благоприятствовало вторжению этих штафирок с тяжелыми тростями, в долгополых зеленых, черных или коричневых рединготах и в высоких темных цилиндрах — словом, в классической своей форме, по которой их узнавали за сотню шагов. Были тут шпики из полиции господина Андрэ и новенькие, служившие под началом Бурьена, доброхоты из приватной полиции графа Артуа; и те, и другие подозрительно поглядывали на соседей. Приходилось прокладывать себе дорогу среди этих шпиков, добрая половина которых наверняка состояла из людей Фуше, готовых в случае прихода Бонапарта к самым решительным действиям. В то же время присутствие их означало, что со времени измены Нея военные лишились доверия. Достаточно было посмотреть, как у себя наверху особы королевского дома подозрительно вглядывались в лицо каждого, даже маршалов. Кто-то изменит завтра?
Было примерно около трех часов пополудни, когда маршал Мармон, герцог Рагузский, отсиживавшийся в Военном училище, пока не без труда собранная королевская гвардия мокла на Марсовом поле в ожидании его королевского величества, велел позвать к себе своего бывшего адъютанта, с тем чтобы направить его в Тюильри. Это же бессмыслица: король пожелал провести смотр, пришлось носиться по всему Парижу и собирать людей, которые после утренней поверки, естественно, разбрелись кто куда, затем построили их под дождем, и теперь они ждут, ждут, а никто и не думает являться.
Хотя маршалу было уже сорок один год, он все еще сохранял юношескую стать. Правда, немного раздался, но высокий рост и красивое лицо, обрамленное темными кудрями, говорили о его аристократическом происхождении. Только вот подбородок слегка отяжелел. В расшитом мундире, с голубой лентой через плечо и с крестом на шее, он как был, так и остался самовлюбленным говоруном и жадным до развлечений ловеласом, каким Фавье знавал его еще по Испании, вечно одержимым желанием оправдаться, будь то на следующий день после Арапильской битвы, будь то сейчас; он нет-нет да и возвращался в разговоре к обвинениям, которыми Бонапарт, едва высадившись в Канне, заочно осыпал его. Сколько раз в эти последние дни маршал то и дело начинал гневаться, разговаривая со своим бывшим адъютантом, с которым он расходился во взглядах чуть ли не по всем вопросам. «Ах, — восклицал он, — ваша хартия!» Как будто Фавье самолично ее составил, как будто только он один повинен во всем, что происходило, даже в этом грубом маневре Людовика XVIII, с помощью которого король надеялся привязать к себе людей императора, а потом — нате вам, измена маршала Нея! Мармон держал сторону графа Артуа и герцога Беррийского. Хотя последний возмущал его своей манерой подражать Маленькому Капралу… по любому случаю тянется ущипнуть за ухо… и он туда же! Слава богу, ростом не вышел.
— Отправляйтесь-ка во дворец, Фавье, — сказал Мармон, — не знаю, о чем только думает его величество… войска окончательно потеряют терпение.
И вдруг он выложил все. Стало быть, отвергли план, который уже давно разработал полковник Фавье, а маршал выдал за свой собственный? Значит, король действительно собирается навострить лыжи? Еще в четверг он обещал Палате погибнуть, но не пропустить врага, а в воскресенье удирает как заяц! Подумать только, две ночи Фавье провел без сна, составляя план укрепления Лувра, вся диспозиция уже была подготовлена: герцог Ангулемский удерживает юго-запад, герцог Бурбонский — запад, королевская гвардия и войска охраняют подступы к Парижу под командованием Макдональда, герцог Беррийский…
— Ну, хватит об этом рассуждать: господин де Блакас-д’Оп, бывший сначала на нашей стороне, вдруг потерял голову, и, когда Блакас сказал королю, что нужно бежать, король, как всегда, согласился с мнением этого дурака! А ведь, черт возьми, внушительная могла бы получиться картина: король Франции наперекор всему — предательству армии, непостоянству толпы — остается в столице, восседает в кресле у порога своего Лувра, дожидается того, Узурпатора, и говорит ему: «Ну, чего вы добиваетесь? Хотите разрушить Париж? Стрелять по дворцу? Сжечь Тюильри? Если вы меня убьете, будете просто цареубийцей, и все равно моя кончина не даст вам права на престол, ибо за мной идут в порядке очереди граф Артуа, герцог Беррийский, герцог Ангулемский… Так что много на этом деле не выиграете!»
Но чтобы он раздумал прибыть на смотр! Вы же сами понимаете, дражайший, смотр тоже его идея, идея короля: он приезжает на Марсово поле, обращается с краткой речью к своей гвардии, разъясняет ей ее долг и объявляет, что она идет к Эссону, дабы перерезать дорогу на Париж… А сам удирает по секретному маршруту… Застава Этуаль, военная дорога…
Эссон! Бывший адъютант маршала, услышав слово Эссон, уже не слышал больше ничего. Эссон! Он взглянул на Мармона, командира королевского конвоя, ныне командующего королевской гвардией. Как мог он, Мармон, без дрожи произносить слово Эссон? Какое ему, Фавье, дело до того, что смотр задуман как военная хитрость, позволяющая Людовику XVIII под благовидным предлогом покинуть Лувр и отбыть к заставе Этуаль? А оттуда куда? Нынче утром еще никто ничего не знал. Некоторые требовали, чтобы король отбыл в Вандею и встал во главе шуанов, куда заранее был послан герцог Бурбонский. Чудесный способ приобрести популярность в народе! Другие стояли за Нормандию. Например, Гранвиль, откуда на худой конец можно перебраться на острова. В Гавре королевская гвардия может продержаться долго, а в случае необходимости, что ж, переправимся в Англию. Самое главное — узнать, будет ли флот хранить верность престолу… Со вчерашнего дня герцог Орлеанский, которому удалось выбраться из Лиона, находился на Севере. Лично Мармон не верил, что король действительно намерен присоединиться к нему: отправка герцога в Лилль была, скорее всего, актом недоверия в отношении сына Филиппа-Эгалите… лишний жест в дополнение к отставке Сульта, который в Павильоне Марсан считался не столько бонапартистом, сколько приспешником Орлеанского дома, и было даже приказано не давать лошадей герцогине, буде та вздумает покинуть Париж… Герцог Беррийский рвет и мечет: зачем его величество держит его при себе и тем мешает разделаться с захватчиком. Как видно, нерешителен король только в распоряжениях касательно солдат. Доверительно понизив голос, Мармон сообщил Фавье нечто весьма симптоматичное: даже прежде, чем было официально объявлено об измене Нея, то есть еще в пятницу, через сутки после торжественного заседания в Палате, королевские бриллианты были отправлены из столицы. Куда? В Кале, а оттуда в Англию…