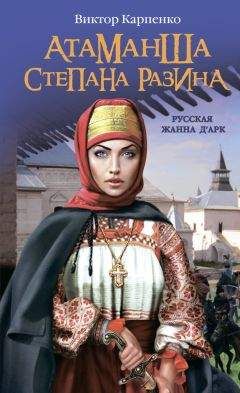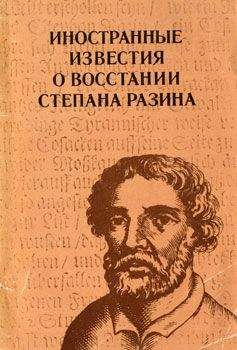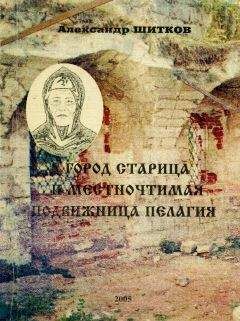– Чего тебе? – недовольно спросила она.
Настя, дрожащая, со слезами на глазах, с трудом вымолвила:
– Матушка, князь Шайсупов в монастырь пожаловал, тебя позвать велел.
– Не ко времени гость. Стой! – остановила она Петра. – Достанет с нее, – и, обращаясь к доверенным монахиням, приказала: – В яму ее и воды не давать!
Ожидая игуменью, князь Шайсупов прохаживался по монастырскому двору, обозревая узорные решетки на окнах собора и трехъярусной соборной колокольни. За ним, поодаль, топтались староста Семен и сотник Захарий Пестрый. У ворот монастыря кружком стояло около десятка стрельцов.
– Чего же ты, черный ворон, не упредил Степаниду, как я наказывал? – недовольным голосом спросил князь, обращаясь к старосте.
– Пришел я загодя, да достучаться не мог. Содеялось у них в монастыре что, никого не видно, – угодливо отозвался Семен. – Мор какой на дев монастырских напал?
– И правда, – оглядел двор сотник. – Ни одной не видно. Пойду погляжу игуменью.
Сотник направился было к дверям собора, но тут из-за келейницкой показалась мать Степанида. Широко ступая, она несла свое большое тугое тело степенно и важно.
– Словно лебедь белая выступает, – причмокнул языком Семен, глядя на игуменью. Сотник ухмыльнулся в бороду.
– Больше на сытую гусыню смахивает. Ишь зоб-то какой отрастила, да и гузка у нее в два обхвата будет.
Староста аж руками замахал от таких слов.
– Грешно тебе об игуменье так говорить, чай, не девка то продажная.
– А по мне все едины, – рассмеялся сотник. – Абы покладисты были.
Игуменья подошла к князю.
– Редкий гость, да желанный, пожаловал в монастырь наш ветхий, – поклонилась князю мать Степанида.
– Дела гнетут все, матушка, – ответил на приветствие Шайсупов. – Да ты, я вижу, не рада гостям будто, в воротах столь долго держишь.
– Что-то ты ноня больно строг, князь-батюшка. Не серчай, что не в воротах встрела, на то причины есть, а ты лучше проходи в обитель да отведай хлеб-соль монастырский, – пригласила она.
Монастырский «хлеб-соль» оказался обилен: в середине широкого и длинного дубового стола на серебряном блюде возвышался запеченный в тесте и нашпигованный зубцами чеснока свиной окорок; на длинном, узком, расписном деревянном блюде горбилась севрюжина; в тяжелых оловянных в позолоте чашах горками была наложена всякая всячина из монастырских кладовых: и белужья икорка, и соленые грибочки, и зелень огородная. Отдельно на малом столе стояло с десяток косушек и большой глиняный кувшин с душистым хмельным медом.
– Садитесь, гости дорогие, отведайте, что Бог послал, – пригласила к столу мать Степанида.
Князь, глядя на обилие кушаний, усмехнулся.
– От щедрот своих Бог одаривает? – показал он на стол.
Игуменья ничуть не смутилась. Она будто ждала этих слов.
– Все лучшее для гостей дорогих, а сами на хлебе и квасе пробиваемся. Не можно нам пищу сладостную вкушать.
Князь сел за стол в кресло с высокой спинкой и, распахнув полы ферязи, откинулся.
– Я, мать Степанида, к тебе по делу вельми важному, – начал было князь Шайсупов, но игуменья его остановила:
– О делах потом говорить будем. Попервой отведай, князь, медка монастырского, а кто до водочки охоч – можно и водочки, – кивнула она сотнику, зная его потребу.
– Гостеприимна ты, матушка, но поначалу о деле поведем речь, а потом и хмельному честь воздадим, – настоял на своем князь. – Нет ли чужих в монастыре? Не прячешь ли кого? – спросил он.
– Всяк в монастырь вхож, – уклончиво ответила игуменья и, догадавшись, о чем пойдет речь, спросила в свою очередь: – А кого тебе надобно, княже?
– Беглых холопов да душегубов!
Игуменья всплеснула руками:
– Окстись, князь-батюшко. Речи такие страшные ведешь. У нас монастырь женский, откель душегубам тут взяться?
– След в монастырь ведет. Не упорствуй, коль укрываешь!
– Искать в монастыре не позволю, – нахмурилась игуменья, – чай, не вотчина, да и поздно хватились холопов, из тюрьмы ушедших, знать, Господу было угодно даровать им свободу. Утекли.
– Так, значит, ведомо тебе о деле моем? – удивился князь.
– В миру не утаишься. Ты бы лучше не грозил, а сел рядком, поговорил ладком да запил договор медком, вот бы и ладно было, – улыбнулась игуменья. – У тебя ко мне дело и у меня к тебе интерес имеется. Я тебе помогу, да и ты меня уважь. Вот и поладим на том.
– Поладили лиса да петух, от ладу остались шпоры да пух, – ухмыльнулся в бороду Захарий Пестрый.
– Не встревай! – нахмурил брови князь Леонтий и, погрозив сотнику пальцем, приказал: – Пойди за стрельцами пригляди, не содеяли б чего. Да Семку с собой возьми. Позову, коль нужда в вас будет.
Когда Захарий Пестрый и староста Семен вернулись в трапезную, с «делом» было покончено и князь Леонтий, довольный и обласканный, сидел в кресле и потягивал из золоченого кубка хмельной медок. Игуменья, раскрасневшаяся, хлопотала вокруг него, предлагая откушать и то, и это.
Сотник, видя, что князю не до него, сел к столу и, отодвинув кубок с медом, потянулся за косушкой. Взболтав содержимое, он опрокинул косушку и опорожнил ее до капли.
– Крепка! На добрых травах настояна, – похвалил водку сотник, но ни князь, ни игуменья, ни староста, уплетавший за обе щеки гусятину, не обратили на него никакого внимания. Только монахиня, прислуживающая за столом, прыснула в кулачок и отвернулась.
Медок был душист и крепок. Сколь выпито его было в застолье, не считано, но, когда в голове у князя помутилось, и он стал глядеть на белый свет осоловевшим взором, игуменья, привалившись к нему своей внушительной грудью, зашептала:
– Жарко, чай, князь Леонтий? Пойдем в горенку, охолонешь.
Князь силился подняться и не мог. Тогда игуменья подала знак, и две монахини, подхватив его под руки, вывели из трапезной. За ним, покачивая внушительными бедрами, проколыхала мать Степанида.
– Никак повела матушка нашего борова на лежбище, – кивнул в сторону захлопнувшейся за игуменьей двери Захарий Пестрый. – Что пиявка впилась. Пока крови не насосется, не отвалится.
Сотник в сердцах сплюнул, поднялся и, поправляя висевшую на поясе саблю, сказал Семену:
– Ты сиди, дьяче, а я пойду к товарищам. Негоже, мы во хмелю, а у них во рту с самого утра ни росинки.
Сунув за пазуху косушку и взяв в руки еще две, сотник, чуть пошатываясь, направился к двери.
– За разбойными шли, не для утехи, – бормотал Захарий. – Князю все бы услада, а нам…
Пнув стоявшую на пути лавку и выругавшись, сотник вышел из трапезной.
Стало тихо, только староста Семен, сидя в одиночестве за столом и уронив голову хмельную на руки, силился запеть не то псалом, не то застольную кабацкую песню.
4
Сознание возвращалось медленно. В голове гудело. Каждый удар сердца отзывался болью во всем теле. Алёна силилась вспомнить, что с ней произошло, но не могла: боль, ноющая, изнуряющая, огненным кольцом сдавила тело.
«Что сейчас? Вечер? Ночь? – думала Алёна и, осознав, где она находится, ответила себе в голос: – Здесь всегда ночь». – И две печальные слезинки сбежали по щекам.
Сесть было невозможно: спина упиралась в одну стену каменной тюрьмы, а колени – в другую.
«Хорошо, что еще ошейник пытошный не одели, а то и головы не повернуть».
Алёна осторожно ощупала стены руками: дикий камень, скрепленный раствором; над головой кованая железная решетка. По ней непрестанно, попискивая и шипя, сновали, точно сбесившись, крысы.
«Кровь, должно, почуяли», – и Алёну передернуло от мысли, что эти серые твари могут проникнуть в ее каменную тюрьму.
Алёна забылась.
«Странно. Прожито три десятка лет, а вспомнить нечего. Детство помнится смутно. Замужество… а было ли оно? Был Бог… каждый день, каждый час. Почему был? – Алёна ужаснулась от этой мысли. – Если он есть, то почему допускает такие страдания? Бог всепрощающий, за страдания воздающий сполна. А мало ли я страдала? Неужель мало, коли ниспослал он этакое испытание. И через кого? Через эту ожиревшую блудливую корову. Злоблива и злопамятна мать игуменья. Не простит, коли не взлюбит».
Скрип отпираемой двери оторвал ее от тягостных раздумий. «За мной, должно. Не насытились еще моей кровушкой», – подумала Алёна.
Послышались легкие шаги, и свет колеблющегося пламени свечи упал на решетку.
– Сестрица Алёна, жива ли? – тихо позвал нежный, почти детский голос, и над решеткой склонилась русая головка послушницы.
– С чем пришла? Или мать Степанида прислала посмотреть, не сдохла ли я? – отозвалась Алёна.
– Нет. Нет. Я сама, – заторопилась Настя. – Загубить тебя порешили. Ноня, как за полночь перекинется, придут стрельцы и заберут тебя. Князь Шайсупов посулил монастырю за тебя отписать в дар деревеньку в семь дворов да шесть пудов воску на свечи.