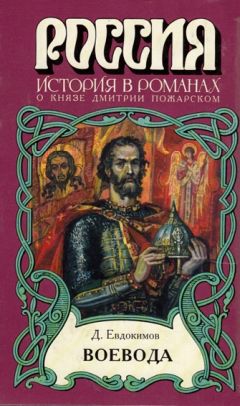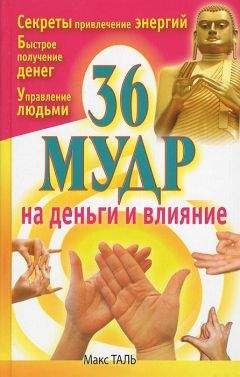Через несколько дней такая встреча состоялась в Заяузье, недалеко от Немецкой слободы. Отстав от телег, на которых поляки, как бы резвясь от избытка выпитого, устроили кучу-малу, отвлекая стрельцов, Сапега нырнул в захудалый кабак, куда обычно приходили бродяги да нищие. В тёмном углу сидели два монаха, один из них махнул рукой — канцлер узнал толмача. Осторожно глянув по сторонам и убедившись, что в этот час корчма пуста, Сапега присел за стол и приказал Заборовскому встать у входа, чтобы оберечь их от ненужного глаза.
— Буду сразу говорить о деле, — сказал Лев Иванович на чистом русском языке. — Я привёз предложение нашего короля о создании унии. В случае, если один из правителей умрёт, власть в обоих государствах переходит ко второму.
Монах, приподняв капюшон, взглянул на канцлера насмешливо:
— Борис хитёр и на такую уловку не поддастся. Король молод, а Борису за пятьдесят, вдобавок болен. Значит, наш престол перейдёт к Жигимонту? Не бывать этому. Борис хочет, чтобы отныне и во веки веков на Руси правил род Годуновых!
— Разве это справедливо? — сочувственно сказал канцлер.
— Нет, этому не бывать! — ударил по столу кулаком монах. — Мы, Романовы, не позволим. Если так случилось, что царский корень прервался...
— А если не прервался? — снова перебил его Сапега.
— Как — не прервался? — тупо уставился на него Александр Романов. — Или ты веришь, что угличский царевич жив? Поверь, то глупые слухи. Мы доподлинно знаем, что царевич похоронен.
— А если жив другой царевич?
— Какой другой? Другого не может быть.
Сапега придвинулся вплотную к монаху и сказал:
— Я тебе открою сокровенную тайну. Ты обсудишь её с братьями, а потом, подумав, ответите мне о своём решении. Ты знаешь, что отец Ивана Грозного, Василий Третий, развёлся с первой женой Соломонидой из-за её бездетности[55]?
— Конечно. Он женился на Елене Глинской, которая родила ему Ивана.
— А, знаешь ли, что Соломонида была пострижена, будучи беременной? И в монастыре родила сына Георгия? Василий, узнав об этом, послал бояр к бывшей жене, но та ребёнка не отдала, сказала, что он родился мёртвым, и даже указала могилку. Однако мальчик остался жив. Его прятали по монастырям, пока он не достиг юношеского возраста.
— Мне мой отец рассказывал, что Ивана Грозного всё время преследовал призрак старшего брата. Он сам ездил по монастырям, лично допрашивал настоятелей, пытаясь найти брата. Но потом внезапно страхи царя утихли, он решил, что Георгий умер, и обратил свой гнев на двоюродного брата — Владимира Старицкого. Он заставил его выпить бокал с ядом.
— Всё правильно. Только Георгий остался жив. Он бежал в Литву, где находилось много русских «отходчиков». Когда там оказался и Андрей Курбский, Георгий перешёл к нему на службу, был одним из его приставов. Князь сосватал ему в жёны местную православную шляхтичку, имевшую небольшое поместье. В тысяча пятьсот восьмидесятом году у него родился сын, которого он нарёк Димитрием...
— А ты откуда это знаешь? — недоверчиво спросил Александр.
Увлечённый рассказом, он забыл об осторожности и откинул капюшон.
— Георгий открылся во всём Андрею Курбскому. И тот всё вынашивал планы отомстить царю Ивану, организовать поход с настоящим царевичем во главе. Однажды он проговорился моему дяде, тоже Сапеге, который был тогда минским воеводой. Мир праху его! Он умер. Умер и Курбский, умер и Георгий. Но Димитрий жив, и он знает о своём царском происхождении.
— Тоже Димитрий. Какова игра судьбы! — проговорил внимательно слушавший Александр Романов. — Но где доказательства? Кто поверит, что он прямой потомок Александра Невского?
— Говорят, что он очень похож на парсуны[56] своего деда. Похож, кстати, и на своего дядю. Это подтверждают старики, знавшие Ивана Грозного в молодости.
— Так сколько ему лет?
— Двадцать исполнилось.
— А угличскому сейчас было бы восемнадцать. Почти ровесники.
— Говорят также, что на груди царевича есть родимое пятно, которым были отмечены все члены этой роковой семьи.
— Этого маловато, чтобы Церковь и народ признали в нём царского сына. Есть ли какая-то грамота, подтверждающая его происхождение?
— Нет. Ведь отец его был рождён тайно и ни в каких книгах не записан. Правда, в Европе ходит книга Сигизмунда Герберштейна, который долгие годы был послом римского императора при дворе Василия Третьего[57]. Когда, кстати, великий князь занял престол, первое, что он сделал, это заточил в тюрьму своего главного соперника, племянника Димитрия, так и умершего в заключении[58]...
— Воистину злосчастное имя для правителей! — воскликнул Романов. — Ведь и первенец Грозного был назван Димитрием. Он утонул в младенческом возрасте!
— Так вот Сигизмунд Герберштейн, бывший в то время в Московии, утверждает, что Соломонида родила сына по имени Георгий, но никому не желала показать ребёнка. Мало того, когда к ней были присланы некие лица для расследования истины, то она, говорят, отвечала им, что они недостойны того, чтобы глаза их видели ребёнка, а когда он облечётся в величие своё, то отомстит за обиду матери.
— Свидетельство иноземца для русских всегда сомнительно, — возразил Александр. — Но, может, мать оставила на нём какой-либо знак? Нательный крест, такой, как, скажем, крест Димитрия Угличского?
— Это какой-то особенный крест?
— Да, он из рода в род переходил от великого князя к наследнику. Иван Грозный повесил на грудь своему последнему младенцу этот крест, как царский знак. Он сделан из чистого золота и платины и украшен алмазами. Когда Димитрия зарезали, мать, Мария Нагая, сняла его и тайно хранит у себя. Поэтому, говорят, — Александр перешёл на шёпот, — и не выживали дети у царя Фёдора, потому что не было этого креста. Как ни старался Борис, он не смог выманить никакими хитростями этот крест у убитой горем матери...
— Это тоже тайна, о которой тем не менее знают все? — улыбнулся в усы Сапега.
— Да, тот, кто предъявит царский крест, станет царём. Так гласит народная молва! — убеждённо ответил Александр.
— Но ведь принц Угличский погиб. Это достоверно известно! — сердито бросил Сапега.
— И всё равно народ верит!
— Чепуха, сказки! Я вам предлагаю реального царевича!
Романов упёрся взглядом в столешницу, не отвечая.
— Я знаю, о чём ты думаешь! — зло бросил канцлер. — Надеетесь, что, когда Борис умрёт, кто-то из вас, Романовых, сядет на престол. Но вспомни, что произошло, когда умер Фёдор. Вы же сами отдали власть Борису, потому что тут же перессорились с Шуйскими да Мстиславскими! И теперь произойдёт то же самое! Пока будете спорить между собой, трон вновь захватит какой-нибудь выскочка! Не лучше ли объединиться под знаменем истинного царевича, который, заняв престол, будет послушен воле боярской!
«И польской тоже», — подумал про себя Романов, а вслух спросил:
— И где же Димитрий сейчас обретается?
Сапега бросил испытующий взгляд на собеседника и, чуть замешкавшись, ответил:
— Где ему и положено быть. В своём имении на Волыни. Но если вы, родовая знать, примете решение, он сразу перейдёт границу, да не один, а с войском. Мы, князья литовские, ему поможем. Это и будет наш вклад в единение славянских племён, создание русско-литовско-польской державы. Поверь, это будет держава, перед которой преклонятся все государства Европы, в том числе и Римская империя... Прошу, посоветуйся с братьями, с другими родовитыми князьями. От вашего решения будет зависеть, как мне вести переговоры с царём Борисом...
В промозглой темноте они расстались, и Сапега, дождавшись, когда гружёные телеги вышли из Немецкой слободы, незаметно, как ему казалось, уселся на одну из них. Но, увы, соглядатаи Семёна Годунова не дремали. На следующий день целовальник донёс о подозрительной встрече иноземца в одежде польского слуги и боярина Александра Романова, одетого монахом. Признал он и царского толмача. А ещё через день Алексашка Бартенев-второй доложил, что собирались вместе все пять братьев Романовых, о чём-то горячо говорили, о чём — он доподлинно не слышал, но несколько раз произносилось имя царевича Димитрия. Заметили тайные соглядатаи, что о чём-то шептались Александр Романов и Василий Шуйский во время службы патриарха в Архангельском соборе.
Перепуганный тревожными вестями, бросился Семён Годунов в царские покои. Там он застал лекаря Фидлера с братом, что хлопотали с какими-то травами, подсыпая их в большой золотой таз, в котором Борис парил распухшую правую ногу.
— Водянка проклятая привязалась, ходить не могу! — пожаловался Борис, по-ребячьи страдальчески выпячивая губу. — Садись. Почему в неурочье явился, случилось что?