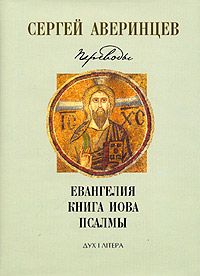Как бы ни лгали, каких бы палачей и лгунов ни покупали и ни ставили себе на защиту.
Капли падают во тьме, и точат, и приближают…
Кап…
Кап…
Кап-п…»
Тайна Павлюка Когута все же выплыла наверх. Да еще и совсем по-глупому. Доверилась Галинка Кахнова младшему брату Илларию, послала к Павлюку, чтоб позвал. Малыш прибежал в хату к Когутам, узнал, что Павлюк в гумне меняет с братьями нижний венок бревен, вскочил туда и ляпнул:
— Павлюцо-ок… Сястла пласила, цтоб не задерзался, как вчела.
Кондрат с Андреем так и сели на бревно.
В следующее мгновение Илларий уже улепетывал, поняв, что сделал что-то не так, а Кондрат гнался за ним, чтоб расспросить подробно. Мальчик был, однако, умнее, чем можно было предположить, шмыгнул от взрослого оболтуса в лаз под амбаром, да там и затаился.
Кондрат предлагал ему сдаться. Обещал разные блага сладким, аж самому гадко было — такой уж сахар медович! — голосом. Малый только сопел.
Когут со злости нарвал крапивы и туго заткнул лаз, а сам, потирая ладони, пошел в гумно, думая, что б все это значило.
А когда пришел, братья дрались.
— Братьям… на дороге… встал? — выдыхал Андрей.
— Не ожидать же… пока вы ее… вдвоем… седую… в монастырь поведете, — сопел Павлюк.
Кондрат кинулся разнимать и получил от Павлюка в ухо, а от Андрея в челюсть. Рассердился, двинул Андрею, потому что тот дал первый. И еще от него получил. Вдохновленный этим, Павлюк наподдал и начал нажимать на Андрея, пока тот, отступая, не упал за бревно и не накрылся ногами.
И лишь тогда Кондрат понял, что обидели и его. И вовсе не Андрей. Схватил брата за грудь, бросил через ногу на солому.
— Ты? С нею?
Прижал в угол.
— С нею, — мужественно ответил Павлюк.
— Будешь?
— Буду.
— Глаза твои где были? Два года она нам дорога.
— Я поначалу и ждал. Да не ждала она. Неохота ей двадцать лет ожидать.
— Отступись.
— Нет. — Павлюк навесил Кондрату.
И в этот миг на младшего навалился Андрей. Дрались молча, сжав зубы. Павлюк был в ярости. Двое на одного. Так черта лысого им девка. Спросили б, дьяволы, у нее.
Павлюка прижали к стене. Рассудительный и спокойный, он мог иногда взрываться лютой яростью. И теперь, увидев, что его побеждают и могут так надавать, что за неделю под забор не пойдешь, он ощутил, как глаза застлал красный туман.
Рванулся меж братьев и снял со стены цеп — дубовый бич на отполированном руками ореховом цепильно.
— Прочь! — рыкнул так, что братья отлетели. — Сунетесь к ней — убью… Стеснялся вас, а вы с кулаками… Убью!
И ринулся на них. Кондрат было захохотал, но сразу отскочил. Цеп врезался в ток у самых его ног.
— Дур-ило! Ты что?!
Но Андрей с побелевшими глазами схватил уже второй цеп и бежал к Павлюку.
Гэх-х! Цепы встретились в воздухе, перекрутились.
Павлюк вырвал свой. Кондрат недоумевающе смотрел, как братья лезли друг на друга. Это была уже не шутка. И тогда он тоже схватил цеп.
Павлюк летел на Андрея, и Кондрат подставил цепильно, рванул цеп из рук брата и отбросил в угол… Андрей, словно не понимая, налетел на них, поднял цепильно — бич привычно вертелся в воздухе.
Кондрат знал: один удар — и смерть. Прыгнул, схватил Андрея за руки. Тем временем Павлюк снова ухватил свой, а заодно и Кондратов цеп. Кондрат потянул Андрея за собой вместе с цепом и спиной прижал Павлюка в угол. Не имея возможности размахнуться, они лупили одними бичами, то по своим рукам, то по Кондратовой спине. Бичи болтались, как язык в колоколе, и хлопали мягко, но чувствительно.
Кондрат получил от кого-то по голове. Зашатался. И в этот момент в гумно влетел озерищенский пастух Данька. Гнал коров, хотел попросить огнива и увидел.
— Пляшете? — с лютым юморком спросил Данька. — Танцы?
— Аг-га, — ничего не понимая, сказал Кондрат.
— Ну, так я вам последний сейчас сыграю, — улыбнулся Данька.
И хлестнул с выстрелом цыганским кнутом. Да по всем троим. Да еще. Еще.
— Аюц, хряки! Ашкир вам, бараны!
Наконец до всех троих дошло, да и жалил кнут, будто горячим железом.
Братья отпустили друг друга. Бросили цепы.
Неладно было в гумне. Не смотрели друг другу в глаза.
— Вы что же это? — спросил побледневший Данька. — Ах остолопы, ах вы дрянь блудливая…
Когуты молчали.
— И, наверное, из-за бабы? Я и то вижу: на деревне один смоляной забор да три болвана возле него… Да есть ли такая баба, чтоб достойна была?!
Кондрат наконец опомнился:
— Хватит. Не трожь бабу.
— Я ее зацеплю! — с угрозой сказал Данька. — Не все мне по жолнеркам да вдовам. Подумаю вот, подумаю, да у вас, козлы, и у тебя, птенец, умыкну ее из-под носа…
Красивое Данькино лицо было сурово. Что-то ястребиное светилось в глазах. Задрожали брови.
— Братья… Да вы, как пырей, с одной связки все… А ну, миритесь!
Молчание было продолжительным. Потом Павлюк тяжело вздохнул.
— Я виноват, Кондрат… Виноват, Андрейка.
— Черта нам с того! — буркнул Андрей.
— Я сказать хотел — духу не хватило.
— С тобой она хочет? — глухо спросил Андрей.
— Да… Не хотел, брат.
Андрей махнул рукой:
— А, да что там… Спал ты, когда совесть раздавали… Идем, Кондрат!..
…Часом позже, сидя на берегу, братья все еще молча макали руки в воду и прикладывали к синякам и шишкам. Нарушил молчание Андрей:
— Ну?
— Вот тебе и ну. Проспали.
— Дак что же зробишь? Другому б бока намяли. А тут… Брат все же…
И Андрей растерянно улыбнулся.
— Дурни мы с тобой, дурни! Сразу спросили б. Вот и дождались.
— Свинья брат, — сказал «на пять минут младший». — Подъехал-таки.
— Брось, — вздохнул Андрей. — Он хороший хлопец.
— Хороший хлопец! — Кондрат поливал водой шишку на лбу. — Как дал, так я аж семь костелов увидел… Позор теперь! Бо-ог ты мой!
— Прохлопали мы с тобой, брат, — грустно улыбнулся Андрей. — Одно нам с тобой утешение: быть нам старыми холостяками да чужих детей нянчить… Хорошо, что хоть не минет нашу хату та невестка. И дети будут Когуты.
Он улыбнулся, но Кондрат понимал, как брату плохо. И хотя Кондрату тоже было так, что аж сердце сжимало, он пошутил:
— Ну, нет. В одной хате с ней я не смогу. Тут, братка, нам с тобой или делиться с отцом, или по безмену в руки — да к Корчаку.
Лицо у Андрея было спокойно, лишь ходило под кожей адамово яблоко.
— Недаром, брат, Адам яблоком подавился, — говорил Кондрат, изо всех сил желая развеселить брата. — Наконец, черт его знает, может, мы с тобой еще радоваться будем, плясать каждый вечер, что ее не взяли. Вот погоди, попадет он в эти жернова да к нам и жаловаться придет. А мы ему, вольные казаки, чарку-другую да в ухо.
— Что ж, — сказал Андрей, — к Корчаку, так к Корчаку.
* * *
Сабина Марич искала встречи с Алесем. Петербург, а затем Вильна не помогли ей. В Вильне она бросалась-бросалась, а потом нашла Вацлава Загорского и навещала его чуть не каждую неделю. Приносила ему конфеты, фрукты, спрашивала о жизни, что пишет брат.
Одиннадцатилетний Вацлав воспринимал все как знак уважения и любви лично к нему. Его, счастливца, на самом деле любили все. Так было в Загорщине, так было и в Вильне. И потому он и его компания встречали молодую веселую женщину радостно, приказывали дядьке ставить самовар, доставать припасы. А затем шли вместе с ней гулять на гору или в парк.
Сабина понимала: эти мальчишки — часть Вацлава, Вацлав — часть Алеся. И потому она старалась подружиться с ними и добиться их расположения.
Младший Загорский поехал в Вильно по протекции, в шесть лет. Поскольку ему принадлежала лишь часть капитала, Вежа решил быстрее выучить его, а затем послать учиться в Германию на инженера-дорожника. Там человек оканчивал учебу не со степенью магистра или бакалавра, а со степенью доктора. С этой степенью охотно принимала для подготовки Англия. Вацлав должен был окончить подготовительный курс у кого-то из кембриджских профессоров, пройти практику на английских железных дорогах и возвратиться в империю одним из мастеров своего дела, после чего всю жизнь он будет человеком. Дед торопился. Ему надо было поставить на ноги и этого.
Вацлав был в шестом классе. Он читал так много и, главное, имел столько книг, что с ним дружили и семиклассники.
Веселый, подвижной, как ртуть, удивительно остроумный для такого возраста, всегда готовый натянуть нос начальству, при этом выгородить друзей и сам не попасться, он был общим любимцем.
Вацлав в самом деле был красив. Волосы волнистые, как у Алеся, глаза серые, с голубизной, рот с приятной, чуть хитроватой складкой, только и грызть ему орехи и шутки. Брови гордые и добрые.
Весь он был от Загорских и одновременно сам по себе.