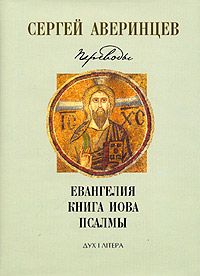— Как на штыках?
— А так. Штыки в парусину да на плечи. А на парусине генерал, чтоб выше. А вокруг солдаты да знаменосец… Меня он помнил, хотя и не очень чтоб отмечал. Не терпел он этих игрушек ни на себе, ни на других. И правильно. Гордиться тут нечем. Присяга, конечно, иначе каждому солдату через двадцать пять лет не чистую, а голову сечь надо б… Так Алексей Петрович это понимал. Не то что Паскевич. Тот за Эривань да Арзрум мне тоже лист да оружие, кинжал да личную саблю. Да крест. А я это все в сундуке держу.
Выбил трубку, крякнул, словно глотнув чарку.
— Потом провоевал я год с лишним с Паскевичем Иваном Федоровичем. Восемь лет было уже моей службы. Отметил он меня после того, как мы крепость брали… Как-то бишь она… И это забыл! Но обидел он меня там сильно. «Шпуры, говорит, надо вести да взрывать». А я ему: «Позвольте сказать, не надо этого. Нужная крепость. Нам понадобится. Войска много, оставьте ее в тисках — да измором ее. Жаль крови». А он: «Вы боитесь, кажется?» Панство дурное! За такие слова глупый солдат, где и не надо, на смерть идет.
Яроцкий говорил глухо и спокойно, словно о том, как они вчера пообедали.
— Я пошел да, пока они там возились с подкопом, самовольно ту крепость взял. Пришлось ему на свечку поплевать, а порох сдать в цейхгауз. На грабеж. Понял, что обидел меня. Когда б ни навещал наш полк, не минет спросить: «Как живешь, земляк?» Да и по имени, по отчеству.
Улыбнулся.
— И вот хоть что говори, хоть и наш, белорус, а не любил я его, покойника. И тогда, и теперь. И не из-за поляков, что он с ними учинил. Это — присяга, и кто перед богом невинен? А так просто. Скользкий был человек. Царедворец. Душа, кажется, нараспашку, а сам хитрый, как линь.
Кони ступали по подсыхающей земле. Жаворонок, как подвешенный на резинке, дрожал между небом и землей.
— А тут мать умерла. Съездил сюда, посадил на могилке деревья. Пусто, тоскливо. И половины отпуска не отбыл — назад… Попал я на линию, по крепостям. Чечня. Девять лет на линии. Был я уже капитаном… Тридцать лет мне было и четырнадцать лет я служил, когда стал над Дагестаном и Чечнею Шамиль. По-нашему — то ли царь, то ли митрополит, по-ихнему — имам. «Имать» наших, значить, поставлен… Ну, тут и началось… Боже мой! Дерутся люди, жгут, режут.
Синие глаза Яроцкого потемнели, хрипловатый бас приглох.
— С генералом Голофеевым в Чечню ходил. Счет стычкам потерял. Кровища лилась… В сорок девятом году было мне сорок пять, а прослужил я двадцать девять лет; израненный весь, как старый волк, ушел я в чистую, с пенсией да с чином майора. Быстро жили люди, быстро изнашивались. Да и решил: хватит, надо пожить… Выслужить больше я не мог. Служили из наших немногие. Связей нет. Знаний особенных тоже нет. Дальше служить не было смысла. А таких армейцев было там триста берковцев да еще наперсток.
— А смелость?
— Не был я смелым. Никогда не был. А даже если б и был, то среди нас, кислой шерсти, смелее меня было — как до Тифлиса на Эривани раком поставить… Да я и обрадовался чистой. Откровенно говоря, не по себе стало.
Дядька опять закурил.
— Залили мы те синие горы человеческой кровью… Хуже их дикари, да еще и сволота беспардонная. Воинов сколько, джигитов положили за эти двадцать девять лет! После моего ухода десять лет минуло, а все воюем, маленьких не можем одолеть. А жаль людей. Дикие они и головорезы, но справедливые. И друзья верные. Гляжу, лучше мне с ними лепешки есть, чем… А, да что там!
Курил.
— Стыдно-с. «Озорство одно», как мой денщик говорил. Мало того, что сожгут эти их сакли, так еще обязательно найдется сволочь да в водоем ихний… А они люди брезгливые, чистые люди. Руки и лицо моют пять раз на день, все одно как мы. А я тебе скажу, таких чистоплотных, как ты, — это еще поискать. Я с ними ладил, они меня даже уважали, мирные. Говорю им: «Баранов отгоните, войско пройдет». Знаю, с ними по-хорошему, чтоб не нищали, так и они немирным не скажут. А у меня и среди них были друзья. Да какие! Сам гроза Мехмет-ходжа. Чеченец был. Мамакай-абрек… Муса-ингуш. Ахмед-бек.
Дядька тихонечко затянул гортанную песню.
— Это по-ихнему… Означает: «Мы родились в ночь, когда волчица родила своих щенят. Мы получили имя, когда рыкает на восходе солнца барс. А смелыми мы стали в горах, где лавины висят над головой, как смерть… Проклятие этим князьям, они лохматые и бурые собаки… Когда доживем до весны, кровью их заставим…»
Развел руками:
— Ну вот… И скажи ты: зачем?! Скалы эти бедные понадобились? Своей земли мало?
* * *
В этих чистеньких, белых комнатах вместе с Алесем жили покой и мир. Жили уже восьмой день.
Окруженные садом, десять комнат под зеленой от мха гонтовой крышей. Низенькие окна, окаймленные синим, радужный от старости кафель натопленных голландок, печка на кухне, разрисованная пояском — девчата с коромыслами и всадники. Двери не только прямоугольные, но кое-где, для красоты и разнообразия, с полукруглой верхней притолокой: не поленились парить и гнуть толстую дубовую плаху.
Дворовые строения немного поодаль. Сад шумит ночью. Книг почти нет, кроме вездесущего «Завальни», пары охотничьих книг, «Дударя белорусского» да еще календарей с восемьсот сорок девятого года.
На полу, вылизанном до желтизны, где постелены густо волчьи шкуры, а где и домотканые половики. На стенах — привезенные ковры. Единственное богатство висело на них — оружие. Удивительной красоты кавказские шашки, пистолеты, фитильные и кремневые, украшенные серебром, ружья.
Дядька поселил его в своей большой «холостяцкой».
Те же ковры, то же оружие. Никаких кроватей, только две лежанки у стен, а на них ковры. Укрываться мехом, чтоб было теплее.
Огромный медный рукомойник, арап на часах вращает перламутровыми глазами. Да еще столик, а на нем вино и закуска, если ночью притянет живот к спине.
И удивительно — несмотря на то, что в Загорщине и Веже такого не было, что ели у дядьки по завязку, он и в самом деле теперь ощущал каждую ночь голод.
— Каждый вечер баня, а баня у меня особенная.
Баня действительно была особенная. Единственное новое здание фольварка поодаль, за оградой. Старая сгорела три года назад. Не то чтоб огнем, а просто так уж натопили, такой был в ней мятный да густой дух с паром, что она тихо себе истлела за ночь, не выдержала. Пришли утром, а бани нет.
— И я по соседству с тобой. Ты, если хочешь, дверь на ночь не закрывай. Вон тебе с лежанки печка в коридоре видна. На рассвете ее затопят. Не знаю, как ты, а я люблю утром, еще в темноте, проснуться и поваляться под меховым пологом. Глядя на огонь, да слушая, как гудит.
Алесь просыпался в темноте под гудение и поблескивание пламени. Лежал. Думал.
Завтракали. Дядька шел по делам, Алесь — в пущу, где уже синели подснежники, или к Днепру, который вначале с орудийным гулом крошил лед, потом мчал его, нагромождая и снова разрушая замки из льдин, а затем широко разливался, словно хотел захватить в свое лоно как можно больше неба.
В пуще, на котлищах, осторожно, чтоб, не дай бог, не набрать песка, срезал в лукошко сморчки. Это была спокойная, добрая охота.
Возвращался поздно, когда смеркалось. Уставший пес бежал впереди, и, когда оглядывался, глаза его саженей за пятнадцать светились красноватым светом.
Дядька уже ожидал. Доставал из кувшинов яблоки, не соленые и не моченые, а — секрет кухарки — как будто свежие и только залитые одной холодной водой и потому особенно сочные. Однако это была не просто вода и не рассол, а что-то совсем иное. Словно в воду налили свежего яблочного сока: кисловато-сладковатая, с запахом свежего яблока. На похмелье — за уши не оттащишь.
Перед сном, когда Алесь уже лежал, люди приносили три-четыре огромные охапки соломы и клали на пол у лежанки. Приходил дядька поговорить с часок перед сном. Набивал лежанку соломой, оставляяя длинную прядь, что соединяла солому в печке с соломой на полу.
Закуривал куцую трубочку, поджигал солому в лежанке и, сидя на скамеечке перед огнем, казалось, медленно, но ловко, нигде не обрывая, тянул и тянул солому в огонь. Словно нитку из кужеля[151] на ручной прялке. Только вместо веретена крутился у его правой руки беспокойный желтый огонь.
— Не по-нашему, конечно, — говорил дядька. — Люди удивляются. Но привык на юге. Да и дело рукам.
Отсветы делали его лицо медным, а усы рыжеватыми. Тянулась и тянулась в огонь, дремотно шелестела не обрываясь золотистая соломенная прядь.
— Воевали, — говорил дядька. — И война же тогда подлючая была. Выходим полком, отрежем участок леса, расставим посты, чтоб не стреляли по воинам, да и вырубим весь лес. Все уничтожим, кроме ежевики. А потом, в сушь, придем да сожжем. Кабаны дикие убегают. Фазаны, бедные, летят, да, глядишь, какой-нибудь горит на лету… Так сожжем на сей раз и с ежевикой. Просеки ведем, заложников берем.