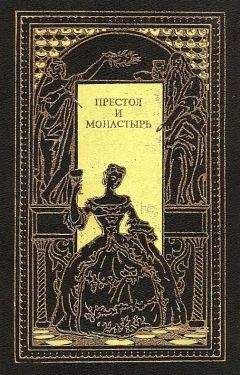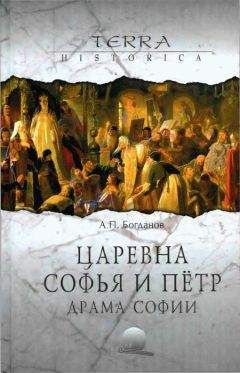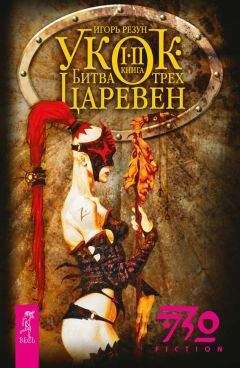— Так ли ты дерзаешь, негодник, говорить со святейшим владыкою! — крикнул на всю палату архиепископ.
— А ты зачем выше главы ставишься? Не с тобою я говорю, а с патриархом! — отвечал Пустосвят, с презрением взглянув на оторопевшего архиерея.
Софья не выдержала.
— Да ты как смеешь говорить со святейшим патриархом? — крикнула она на Никиту. — Разве ты забыл, как отцу нашему, царю Алексею Михайловичу, святейшему патриарху Питириму и всему Освященному собору принес повинную, а ныне снова за прежнее дело принялся?
— Оно точно, что принес я повинную, — равнодушно и лениво поглаживая бороду, отвечал Пустосвят, — да принес я ее между топором и срубом, а ответом на мою покаянную челобитную была тюрьма. А за что? И сам я того не ведаю.
— Молчать! — грознее прежнего крикнула царевна.
Никита не унялся окончательно, но продолжал что-то сердито ворчать.
— Ты, страдник, и замолчать не хочешь! — вмешался снова холмогорский владыка, но на этот раз вмешался весьма неудачно.
Разъяренный распоп заскрежетал зубами и кинулся на архиепископа.
При нападении Никиты на Афанасия все в ужасе вскочили с мест.
— Вы видите, что делает Никита! — вскрикнула Софья.
— Не тревожься, государыня царевна, он только рукою его от себя отвел, чтобы прежде патриарха не совался! — успокаивал Софью какой-то раскольник.
В палате начался теперь общий переполох, среди которого с сильным стуком и треском валились на пол скамейки, аналои, свечи, книги и иконы. Выборные стрельцы кинулись на исступленного Никиту и с трудом оттащили его, но большой клок из бороды преосвященного остался в руках изувера. Утрата значительной части бороды, впоследствии не заросшей, расстроила благообразие святительского лика, и Афанасий стал брить бороду. Он был единственный безбородый иерарх в нашей Церкви, и Петр Великий отменно любил его за это и чрезвычайно ласкал, вспоминая, что Афанасий утратил часть своей бороды в борьбе с расколом.
После нападения распопа на архиепископа едва удалось восстановить тишину в Грановитой палате. Стрельцы с трудом сдерживали за руки Никиту, который тяжело дышал и снова рвался врукопашную с кем-нибудь из отцов собора.
— Читай их челобитную! — приказала царевна дьяку.
Дьяк принялся исполнять отданное ему приказание, но чтение прерывалось беспрестанно дерзкими возгласами раскольников и поднимавшимися вслед за ними ожесточенными спорами с обеих сторон. Царевна то взглядом, то движением руки, то словами унимала расходившихся через меру богословов.
— Еретик был Никон! — вдруг гаркнул какой-то раскольник. — Никон поколебал душою царя Алексея Михайловича, и с тех пор благочестие у нас пропало!
В порыве страшного гнева вскочила царевна со своего кресла.
— Такой хулы терпеть нельзя! — вскрикнула царевна. — Если патриарх Никон и отец наш были еретики, значит, и мы тоже. Выходит, что братья наши не цари, а патриарх не пастырь Церкви, и нам не остается ничего иного, как только покинуть царство и идти в иные грады…
С этими словами правительница стала спускаться со ступеней трона.
— Пора бы, государыня, вашей чести идти в монастырь! Полно вам царством мутить! Нам бы цари наши здоровы были, а и без вашей милости место пусто не будет! — заговорили в толпе, — Пора бы вам на вашу разумную головку черный клобучок надеть да засесть в келейку, — подтрунивали раскольники над Софьей.
Гневно озираясь кругом и тяжело дыша, остановилась царевна посреди Грановитой палаты. Духовные власти, бояре, думные люди и стрелецкие выборные обступили ее.
— Преложи, благоверная царевна, гнев на милость! Прости невеждам за их продерзность и грубиянство! Соизволь по-прежнему править царством Российским! — говорили они, готовясь упасть ей в ноги.
— А по правде-то сказать, не женского ума дело царством править, — громко позевывая на всю палату, сказал кто-то в толпе с тем равнодушием и с тем спокойствием, которые так свойственны русскому человеку в самых торжественных и в самых затруднительных случаях.
Насмешка эта, в которой прозвучало полное пренебрежение к женщине, долетела до слуха царевны. Задетая этими словами за живое, она побледнела от гнева и, не говоря ни слова, быстро повернулась назад и, через расступившуюся перед нею толпу, взошла тихою и твердою поступью на помост и там снова села на прежнее место.
— Читай дальше челобитную, — равнодушно приказала она дьяку.
Дьяк принялся снова за свое дело. Читал, читал, но нелегко было ему одолеть целых двадцать столбцов, тем более что и теперь, как и прежде, чтение беспрестанно прерывалось криками и спорами, но уже далеко не столь яростными, как при начале собора. Стало вечереть. Наконец чтение челобитной окончилось. Все по-умаялись порядком: кому хотелось поесть, кому выпить, кому соснуть. Царевна воспользовалась усталостью собора.
— За поздним временем заседать долее собору нельзя, указ сказан будет после! — громко и твердо объявила она.
Послышалось было слабое выражение неудовольствия, послышалось и насмешливое шушукание. Но царевна поднялась с места, встали за нею также и все прочие, участвовавшие в соборе. Царевна, ее сестры и их мачеха отправились в свой хоромы, а густая толпа, громко толкуя, повалила из Грановитой палаты на Красное крыльцо и, сойдя с него, вступила на площадь и потянулась из Кремля. Впереди нее горделиво выступал Никита, высоко держа поднятую вверх руку со сложенным двуперстным крестным знамением.
— Тако веруйте! — голосил он. — Тако творите! Всех архиереев попрахом и пострамихом.
Его сопровождали шесть чернецов «волочаг», тоже возвещавших народу о торжестве древнего благочестия над новою верою. Дойдя до Лобного места, толпа остановилась, раскольники расставили там иконы, свечи, аналои и скамейки, и Никита долго поучал народ истинному православию. Затем с громким пением раскольники двинулись за Яузу. Там встретили их колокольным звоном, и они, отслужив молебен в церкви Спаса, что в Чигасах, разбрелись по домам, радуясь своей победе.
Следуя советам Голицына, царевна велела, чтобы назавтра были у нее в хоромах выборные от всех стрелецких полков. Они явились, и царевна вышла к ним, окруженная сестрами и боярами.
— Ужели вы променяете нас на шесть расстриг и предадите поруганию православную Церковь и святейшего патриарха? — сказав это, царевна приложила к глазам ширинку и громко заплакала. — Стыдитесь, вы отборное царское войско, а якшаетесь с глупою чернью, которую мутят побродяги. Или хотите, чтобы я ушла от правления? Так что же, я уйду!
Слезы молодой царевны, ее вкрадчивый голос и складная речь сильно подействовали на выборных.
— Нет, государыня царевна, не хотим мы, чтобы ты уходила от правления! — заговорили они. — За старую веру мы не стоим: она не нашего ума дело.
Удовольствовавшись на первый раз таким ответом, царевна пожаловала стрелецких пятисотенных в думные дьяки, допустила выборных к ручке, угостила их из царского погреба, приказала раздать денег и пообещала всем стрельцам новые милости и награды.
Обласканные и награжденные, а потому и чрезвычайно довольные царевною, возвратились выборные в свои слободы и принялись отдалять своих товарищей от раскола, но рядовые стрельцы с негодованием слушали их внушения.
— Посланы вы были говорить о правде, — упрекали они выборных, — а творите неправду, пропили вы нас на водках и на красных винах.
Ропот между раскольниками-стрельцами усиливался все более и более, но царевна не теряла бодрости. Она звала поочередно к себе стрельцов, на которых указывала ей Родилица, как на людей, готовых постоять за новую веру, выходила к ним, подолгу разговаривала с ними, и число приверженцев ее в слободах быстро множилось. Прошла лишь неделя со времени бурного собора, происходившего в Грановитой палате, как правительница решилась нанести жестокий удар расколу. Она — потребовала от преданных ей стрельцов, чтобы они представили на расправу Никиту Пустосвята и главных его сообщников. Стрельцы исполнили это требование.
— Я не хочу сама решать его участь, не хочу также, чтобы Никиту судили бояре и приказные люди. Осудят они его хотя и правильно, да потом в народе примутся говорить, что они сделали мне это в угоду, — сказала царевна и приказала предать распопа «городскому» суду, составленному из одних только выборных.
Суд в тот же день порешил Никиту, признав, что он за хулу на святую православную Церковь, за оскорбление царского величества, святейшего патриарха и за нападение на архиепископа подлежит смертной казни.
— Не на меня падет его кровь, а на его судей, — спокойно сказала царевна, приказывая привести в исполнение смертный приговор, постановленный над Никитою и 11 июля 1682 года, лишь только начало восходить солнце на Болоте под ударом топора отскочила от туловища голова Пустосвята.