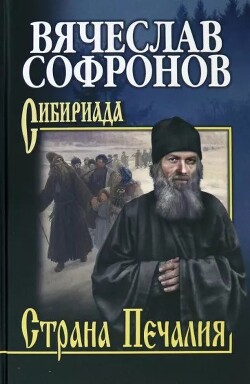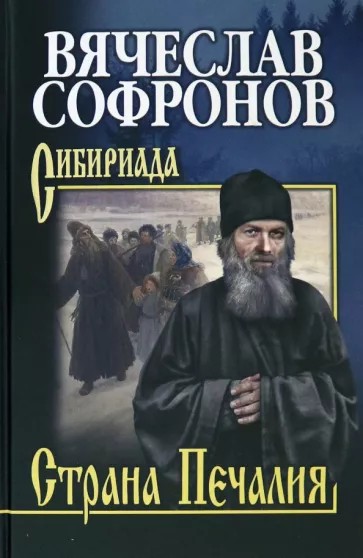—
Давай-ка спать укладываться, — предложила Марковна. — Теперь словами делу не поможешь. Вот всегда ты так — сотворишь что, а потом каешься и во всем винишь кого ни попадя, а своей вины в том не видишь.
—
Ложись сама, а я посижу чуть, с мыслями собраться надо, — ответил он ей, устраиваясь на своем обычном месте под образами.
Так он просидел довольно долго, раздумывая, как поступить, когда, судя по всему, его главный здешний недруг взял верх и помешать ему в том он не в силах.
«Почему же так мир устроен, — думал он, — что люди разнятся не по вере своей и даже не по делам, ни по помыслам добрым, а по тому, какой чин занимают? А чины им даются не от Бога, а от людей, таких же смертных и корыстных. Неужели так дьявол силен, что Господь с ним совладать никак не может? Тогда что можем мы, твари земные и телесные, поделать? Как злу и корысти противостоять? Почему Господь не слышит мои молитвы, не заступится, не поможет?»
С этими мыслями он задремал и не помнил, как Анастасия Марковна встала и осторожно отвела его на постель, раздела и укрыла теплым, ее руками сшитым, цветастым с меховой подкладкой одеялом.
А ангел Божий, знавший все его помыслы и мечтания, витал здесь же и тоже не знал, чем может помочь этому сильному человеку, задумавшему исправить мир и сделать его другим.
«Уж если нам, силам небесным, не по плечу такая задача, тогда что может человек, единственное оружие которого — слово?» — размышлял он сам с собой. А мысли его неслись наверх, к небу и достигали божественных чертогов, где смешивались в единый поток, состоящий из земных чаяний и помыслов. И Господь, знавший обо всем, что творится в созданном им когда-то мире, направлял помощников своих в помощь тем, кто в том нуждался.
Но кто мог знать помыслы Его? Лишь те, кто отрекся от всего земного и вел жизнь святую и безгрешную. Но если и были такие, то держали свои уста сомкнутыми, поскольку, даже заговори они, вряд ли кто уверует словам их. Ибо сказано: нет пророков в отечестве своем. И жизнь шла дальше такой, какой каждый видел ее по силе веры своей…
Когда на другой день Аввакум подробно пересказал архиепископу, чем закончился его поход на воеводский двор, тот встретил это известие спокойно, будто бы знал наперед, что воевода, желая показать свою власть, вряд ли пойдет ему навстречу.
Аввакум же без обиняков предложил:
—
А не организовать ли нам крестный ход с иконами и хоругвями на воеводский двор? Тогда ему деваться некуда будет, выйдет навстречу и пусть только попробует отказать в выдаче беглецов, народ отвернется от начальника такого…
Но архиепископ с ходу отверг предложение Аввакума, посчитав неуместным вести народ без видимой на то причины в покои воеводские. И добавил:
—
Еще и засмеют, коль в Москве о том прознают. И всячески ославят и перед царем, и патриархом. Ничего, есть у меня способ, как этого негодника к ответу призвать, — успокоил он не в меру горячившегося Аввакума, — а сейчас надо к Рождеству готовиться, а там и Крещение не за горами…
На том и расстались. Зима стояла снежная, и многие сибирские города, а вместе с ними и епархии оказались отрезанными друг от друга. На рождественские праздники вдруг потеплело, снег вдоль дорог мигом осел, а на Иртыше во многих местах возникли вытаявшие промоины. В одну из них, возле самого города, поздним вечером как раз накануне Рождества и угодил обоз с рыбой, шедший из низовий, как обычно, по замерзшему льду. В полынью провалились несколько лошадей, потянув за собой груженые сани. И сколько ни старались, вытащить на лед их не смогли. Ладно, что сами возчики уцелели, хотя и вымокли с головы до ног, пытаясь спасти хотя бы часть поклажи.
Горожане посчитали это плохим предзнаменованием и упросили владыку совершить крестный ход с чудотворной Абалакской иконой по всем приходским храмам. Тот долго раздумывал, но потом все же дал свое благословение. Город оживился в преддверии столь важного события, несколько доброхотов наняли молодых парней выложить из замерзшего снега напротив Софийского подворья украшенные крестом ворота, через которые и должны были пронести чудотворную икону Матери Божьей. Позже к ним присоединились сидевшие по домам без дела мальчишки. Когда работу закончили, то арки ворот увили разноцветными лентами, украсили еловым лапником, отчего ворота стали смотреться празднично и торжественно. Владыка отправил соборного диакона окропить ворота святой водой, и в сочельник икону Богородицы пронесли через них в кафедральный собор, установили в центре и начали службу.
Народу собралось столько, что все не вместились в храм и оставались до конца службы у входа. Когда на городских звонницах раздался колокольный звон, сообщивший о появлении на свет божественного Младенца, то с воеводского двора неожиданно ударили пушки, салютуя знаменательному событию. Но народ, стоявший возле храма, не привыкший к подобному, с испуга кинулся прочь, толпа налетела на ничем не укрепленные снеговые ворота, и они под напором толпы рухнули, покалечив нескольких человек. Донесли владыке, но он не позволил остановить службу и довел ее до конца. Лишь после этого вышел вместе со всем соборным причтом на крыльцо, но, увидев творящуюся сумятицу, растерялся и тут же вернулся обратно в храм, так и не совершив обязательный крестный ход вокруг собора. И это тоже было воспринято горожанами как дурное предзнаменование едва начавшегося года…
Великое водосвятие прошло без особых происшествий, разве что владыка Симеон решился, как принято по древней русской традиции окунуться в ледяную иртышскую купель и на другой день тяжко захворал, лишившись голоса. Поскольку волею судеб он остался без келейника, то выхаживала его все та же вездесущая Дарья и никогошеньки больше к нему не подпускала.
Но ей одной было не разорваться между своей поварней, которую никак нельзя было оставлять без присмотра, и болящим. Тогда она снарядила человека за Спиридоном, надеясь определить его на прежнее место при архипастыре. Но гонец вернулся с известием, что бывший келейник, польстившись на хороший заработок, ушел с тем самым рыбным обозом, что недавно пострадал, нарвавшись на речную полынью под городом.
Дарья по привычке чертыхнулась на этот счет, но при этом не забыла тут же перекреститься, прошептав: «Прости меня, Господи, грешницу старую» и продолжала одна ухаживать за мечущемся в горячке владыкой. Через неделю жар спал, и он пришел в себя, с аппетитом поел и прошествовал в свой кабинет. Потом вызвал к себе Григория Черткова, что перенял все дела и обязанности убегшего Струны, и потребовал отчета за время его болезни. Тот обстоятельно обсказал, чем был занят все эти дни, чем окончательно привел архиепископа в доброе расположение духа, и он первым делом поинтересовался:
—
Много еще воровства вскрылось по делам денежным?
—
Да есть по мелочи, но сразу не разберешься, куда что потрачено. Может, позже что еще вскроется, тогда и доложу.
—
От патриарха или еще откуда грамоты были? — пытливо глянул на него владыка, словно подозревая в чем.
—
Не было, ваше высокопреосвященство, — с готовностью ответил тот, — если бы что прислали, первым делом сообщил…
—
Гляди у меня, узнаю, скрываешь что или за моей спиной затеваешь чего недоброе, семь шкур спущу и место Струны в подвале мигом займешь, — пристукнул посохом для острастки владыка и на этом отпустил Черткова.
После витиеватых речей Струны, умевшего все объяснить, обосновать, замазывать свои огрехи, а на деле выходило совсем иначе, архиепископ опасался верить кому-либо, а потому нагонял строгости, надеясь тем самым предотвратить очередной подлог. В то же время он понимал, при желании, обладая доступом ко всем финансовым делам, его помощники могут легко скрыть тайные сделки с торговыми людьми, завысить цены, а проверить их он был просто не в силах…