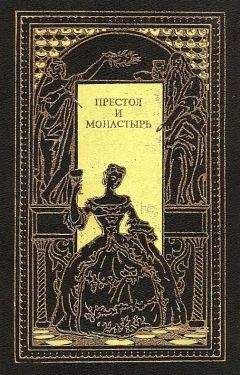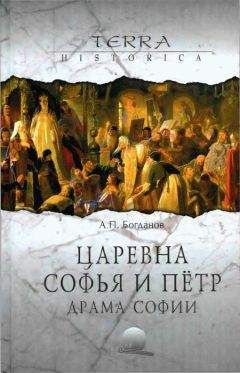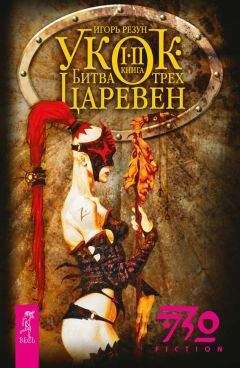Кроме того, старик Хованский и его сын обвинялись еще и в том, что они при великих государях и при всех боярах «вычитывали свои службы с великою гордостью, будто никто так не служивал, как они», тогда как, — говорилось в приговоре, — всюду, где ни бывали Хованские, «государских людей своевольством своим и ослушанием их государских указов и безумною своею дерзостью они напрасно теряли и отдавали неприятелям». Обвинялись оба Хованские и в том еще, что «в палате дела всякие отговаривали против их государскому указу и Соборному уложению с великим шумом, невежеством и возношением, и многих господ своих и всю братию бояр бесчестили и нагло поносили и никого в свою пору не ставили, и того ради многим граживали смертью и копиями».
Слушая этот длинный и разнообразный приговор, старик Хованский только отрицательно покачивал своею седою головою, а сын его пожимал по временам плечами и вопросительно взглядывал на отца.
— И великие государи, — возгласил Шакловитый, окончив чтение обвинительных статей, — указали вас, князь Иван и князь Андрей Хованских, за такие ваши великие вины, и за многие воровства, и за измену. — казнить смертью.
Старик Хованский понял, что всякие оправдания будут теперь напрасны. Молча, со злобным укором оглянул он бояр, исполнителей казни, подошел к заранее приготовленной плахе и положил на нее свою голову. Один стрелец схватил его за волосы, другой махнул топором, и отсеченная голова упала на землю, а подле нее рухнулось туловище.
С воплем кинулся молодой Хованский к плахе, с трудом нагнулся он со связанными назад руками, поцеловал сперва бледную голову отца, а потом его грудь, выпрямился горделиво во весь рост и, так же молча, как его отец, положил свою голову на плаху, уже залитую родною кровью. Стрелец махнул топором в другой раз, и голова князя Андрея отделилась от тела.
Третьим взмахом топора была отсечена на той же плахе голова Бориса Одинцова, одного из самых преданнейших людей Хованского.
Обезглавленные трупы обоих князей были положены в один гроб и ночью отвезены в село Городец, находящееся в недальнем расстоянии от Воздвиженского.
Вздрогнула и побледнела царевна, узнав о казни Хованских. К устрашавшему ее призраку красавца-юноши Нарышкина прибавились еще три новые тени. Не слишком, однако, поддавалась она страху, оправдывая себя в совершенных казнях необходимостью спасти Церковь и государство и успокаивая себя тем, что приговоры об этих казнях были поставлены не ею, а боярами Двадцатичетырехлетнюю девушку-правительницу, решительную и властолюбивую, гораздо более смущали не призраки мертвецов, а живые люди.
В числе стольников царя Петра Алексеевича был младший сын Ивана Хованского, князь Иван. Узнав о казни отца и брата, он тотчас вскочил на коня и без оглядки помчался в Москву из Троицкой лавры. К ночи он был уже там. Прискакав в стрелецкую слободу, он приказал ударить набат и сбор. Проворно на этот тревожный призыв сбежались стрельцы к съезжим избам.
— Отца и брата моего, князя Андрея, убили бояре, без розыска, без суда и ведома царского! Переведут они и вас, — кричал Хованский собиравшимся около него стрельцам.
Начавшийся в стрелецкой слободе набат все далее и далее расходился над Москвою, и снова грозно загремели в ней стрелецкие барабаны. Стрельцы кинулись в Кремль и обставили его кругом орудиями, взятыми с пушечного двора.
— Хотят нас вырезать бояре всех до последнего младенца, а дома наши сжечь, — кричали озлобленные стрельцы, толпясь перед патриаршими палатами.
— Пойдемте, братцы, сами против бояр! Чего нам ждать, когда они нападут на нас! — говорили смелейшие, подбивая своих товарищей к походу в Троицкую лавру.
— Надо прежде поговорить с патриархом, он без царя начальный человек в Москве. Потребуем от него, чтобы он разослал в украйные города грамоты с приказанием тамошним служилым людям идти к Москве на нашу защиту, — советовали некоторые из стрельцов своим слишком горячившимся товарищам.
На этом совете остановились, и выборные отправились к патриарху, который вышел к ним в Крестовую палату.
— Не смущайтесь, чада мои, прелестными словами, ждите царского указа и самовольно к царям в поход не ходите! — начал увещевать святейший Иоаким.
— Ведай, старче, — закричал ему один из выборных, — что если ты с боярами заодно мыслишь, то мы убьем и тебя, никому пощады не дадим!
Патриарх увидел бесполезность дальнейших увещаний. Со страхом удалился он в свои хоромы, а стрельцы между тем безвыходно толпились в Крестовой палате, все сильнее и сильнее негодуя на патриаршую «дурость».
— Пойдем на бояр! — вопили они в палате.
— Успеем еще, подождем царского указа! — унимали другие.
Наступила ночь. Набат продолжал гудеть. Стрельцы вооружались и укрепляли Кремль. Переводили туда свои семьи, перекапывали улицы, строили надолбы и ожидали нападения служилых людей, бывших при царях в Троицкой лавре. В то же время и там укреплялись против ожидаемого нападения стрельцов: втаскивали на раскаты пушки, расставляли стражу по зубчатым стенам монастыря. Высылали на дорогу разведочные отряды и устраивали в оврагах и лесистых местах засады для наблюдения за движением стрельцов в случае их похода из Москвы. Во всех этих распоряжениях Софья принимала деятельное участие, вверив оборону лавры князю Василию Васильевичу Голицыну с званием ближнего воеводы.
Напрасны, однако, были все эти приготовления. Стрельцы пока не двигались на лавру.
Софья между тем принимала все меры для утишения стрельцов. Она послала в Москву указ о казни Хованских и думного дворянина Голосова для объяснения со стрельцами.
— Скажи им, — говорила царевна, отпуская в Москву Голосова, — чтобы за Хованских не заступались. Скажи им также, что суд о милости и казни поручен от Бога царям-государям, а им, стрельцам, не только говорить, но и мыслить о том не приходится. Объяви также стрельцам через патриарха, что им опалы не будет, если принесут повинную и пришлют в лавру по двадцати человек лучшей своей братьи от каждого полка.
— Зачем нам идти в поход к государям? — заговорили стрельцы после того, как им был прочитан указ о казни Хованских. — Сами государи наших лиходеев изводят. Вот ведь и князю Ивану Андреевичу отрубили голову за то, что он «облыгал» нас, надворную пехоту, перед государями, а сам мутил нас своими речами. Казнь его праведна.
Быстро переменилось мнение стрельцов об их погибшем, прежде столь любимом начальнике. Принялись теперь стрельцы порицать Хованского и за то, и за другое и, наконец, порешили, что мстить за него боярам не приходится. Стали они также убеждаться и в том, что на них из лавры нападать не желают. Преданные царевне люди внушали стрельцам, чтобы они вполне успокоились. Стрельцы присмирели и стали просить патриарха, чтобы он уговорил государей возвратиться в Москву.
27 сентября выборные отправились в лавру и на пути встречали сильные отряды дворян и служилых людей. Окруженная в укрепленном монастыре и теми и другими, смело и грозно заговорила правительница с прибывшими к ней стрельцами. Теперь она вышла к ним одна, без царевен, лишь с немногими боярами, не возбуждавшими к себе в стрельцах особой ненависти.
— Люди Божии, как вы не побоялись поднять руки на благочестивых царей? Разве забыли вы крестное целование? Посмотрите, до чего довело ваше злодейство: со всех сторон ратные люди ополчились на вас. Вы именуетесь нашими слугами, а где ваша служба, где ваша покорность? Раскайтесь в ваших винах, и милосердные цари помилуют вас; если же не раскаетесь, то все пойдут на вас.
Выборные повалились царевне в ноги, заявляя, что у стрельцов нет злого умысла ни против царей, ни против бояр. Правительница отпустила их всех из лавры, а в Покров привезена была туда челобитная, в которой стрельцы клялись служить верно государям, без измены и шаткости, прежних дел не хвалить и новой смуты не заводить. 5 октября стрельцам, созванным в Успенский собор, было объявлено царское прощение, но правительница ожидала, пока они совсем успокоятся, и только 6 ноября она и все царское семейство вернулись в Москву, а 6 декабря думный дворянин Федор Леонтьевич Шакловитый был назначен начальником Стрелецкого приказа, со званием окольничего Возвышение его было и неожиданно и чрезвычайно быстро.
Стрелецкие и раскольничьи смуты, подавленные царевною, придавали молодой девушке все более и более самоуверенности и твердости. Все сильнее и сильнее чувствовала она власть, бывшую теперь в ее руках, и по выражению одного современника, правила государством «творяще, яже хотяй».
По возвращении в Москву из лавры она начала деятельно заниматься государственными делами. Пр и этом главным пособником и постоянным ее руководителем стал князь Василий Васильевич Голицын. В то же время царевне пришел на память разговор с Милославским о том, что ей для государственных дел нужен «оберегатель», и она повелела Голицыну именоваться и писаться «новгородским наместником, царственные большие печати и государственных великих посольских дел оберегателем и ближним боярином».