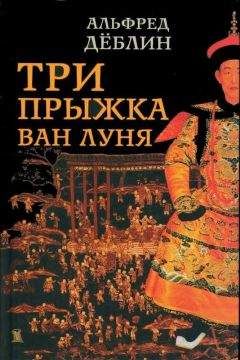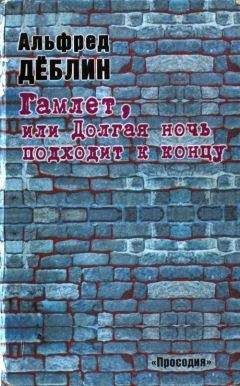(абсурдистский диалог: персонажи, по существу разговаривающие на разных языках) «Все, о чем говорит августейший повелитель, звучит превосходно. Но августейший повелитель вовсе не нуждается в помощи жезлоносного ламы. Повелитель сейчас просто выныривает из сансары — после того, как услышал зов».
«Я — император, и я не живу в сансаре. Я не хочу идти по путям, которые ведут к Будде; моя империя прекрасна, она никогда не казалась мне — и сейчас не кажется — адом. Палдэн Еше, не будьте же глухи ко мне, умоляю вас!»
«Пусть Цяньлун не будет глухим! Как еще может происходить пробуждение в человеке, если не таким вот образом — через беспокойство, страхи, ночные бдения, стискивание рук, взывания на все четыре стороны света…»
В ряду других голосов (наряду с голосами буддизма, конфуцианства, даосизма) порой звучит голос самого Дёблина — врача, социолога, человека двадцатого столетия. Он дает свою трактовку событий, пользуется характерной для его современников (отчасти научной, отчасти журналистской) лексикой:
Они [бродяги] были общительными людьми, с особыми представлениями обо всем на свете, хорошо знали жизнь и во многих отношениях превосходили средний уровень других, законопослушных жителей империи. Среди них едва ли нашлось бы хоть пятеро, которые не казались бы себе гонимыми и не считали бы, что действуют не по собственной воле, а под давлением внешних обстоятельств.
Сотни и сотни людей сгрудились под знаменем «Расколотой Дыни»; но никто не готовил для них переправу к чаемому прибежищу, никакая тихая гавань не ждала этих исстрадавшихся отщепенцев. И происходившее нельзя было назвать иначе как бессовестным обманом, злодеянием. Потому что их всех вели на бойню — на бойню, а отнюдь не в Западный Рай.
Священнослужители, высочайшее благо мира, явились среди бедняков, которые на свой дилетантский лад стремились достичь — гораздо более кратким и горестным путем — Небес Блаженства.
Чжаохуэю подчинялись пользующиеся дурной славой ветераны джунгарской войны, в свое время огнем и мечом опустошившие долину Или; власти не отваживались распустить эту армию солдат-убийц […].
В одном случае Дёблин прямо вступает в полемику с даосизмом:
…Ибо тот, кто несет в себе Дао, не хочет видеть, не хочет ощущать вкус, не хочет слышать. Предательски отвергает собственное тело. Воспаряет над ним.
Так и было. Темный, жаркий молитвенный хмель овладел Монгольским городом. Одержимые эти хмелем телесные оболочки недвижимо сидели на улицах — немые, слепые.
А иногда проявляет свои человеческие эмоции — употребляет эпитеты вроде «поразительный», «гигантский», «чудовищный», «ужасный», вставляет в текст романа реплики-комментарии, выражающие его возмущение или удивление:
И он [Ма Ноу] принудил себя и их обернуться, издали, через лессовую равнину, наблюдать, как бандиты насильничают над братьями и сестрами, глотать этот горький яд. По его указанию братья — что было неуместно и глупо — запели. […] Потом столпились вокруг коленопреклоненных — возносивших хвалу насилию? — вожаков.
Вот и сейчас у Ма было чувство, будто судьба склонилась перед его волей, и он нерешительно заигрывал с представлением — на самом деле таким смехотворным! — что каким-то непостижимым образом его собственный путь совпал с путем Дао.
В предгорьях Тайханшаня происходило нечто удивитедьное, сказочное — наивное, как народные песни.
Все это не случайные описки, а свидетельства того, что сам Дёблин присутствует в тексте как персонаж, как участник диалога[414] (что, собственно, выражено уже в предисловии: «Я [Дёблин] хочу принести ему [Лецзы] поминальную жертву…»). Интересно, что этот персонаж-Дёблин несколько раз однозначно осуждает Ма Ноу, из-за своего тщеславия загубившего многие человеческие судьбы, но такая оценка релятивизируется столь же вескими аргументами Ван Луня, который уже после смерти своего друга восхищается тем, что Ма Ноу до конца остался верным идее у-вэй, или субъективными ощущениями Ма Ноу, в целом совпадающими с ощущениями его приверженцев:
Время, проведенное у болота Далоу, подарило секте все, о чем она могла мечтать, — восторг, трепетное упоение, счастье. Но только здесь, «на Острове», братья и сестры получили надежное убежище. Это было наивысшим достижением Ма Ноу. [Курсив Дёблина].
Второй приведенный выше пример из китайского трактата раскрывает характерное для Востока представление об отсутствии четкой границы между «я» и «не-я». Мне представляется, что роман о Ван Луне вообще невозможно понять вне этой концепции, вне осознания того, что Дёблин искал пути преодоления западного индивидуализма[415]. На структурно-стилистическом уровне это выражается в очень широком использовании несобственной прямой речи[416] (во всевозможных комбинациях — с обычным повествовательным текстом, с косвенной речью, с диалогом). Границы между репликами отдельных персонажей, между этими репликами и авторским комментарием, между мыслью-ощущением и произносимыми вслух словами Дёблином намеренно стерты. «Всезнающего» автора в «Ван Луне» нет, но читатель постоянно переносится вовнутрь то одного, то другого сознания (иногда — многократно на протяжении одного диалога, так же быстро, как сменяются реплики), учится видеть происходящее глазами другого, других — а может, и весь роман в целом допустимо интерпретировать как медитацию Дёблина, переживающего на себе процесс обучения умению вчувствоваться, вжиться в другого[417]. Этот прием настолько необычен, что хотелось бы разобрать несколько примеров его применения. Вот традиционный, казалось бы, рассказ о диалоге между Ван Лунем и бонзой:
Увидав степенно приближающегося Вана, бонза почтительно кинулся ему навстречу, поблагодарил за богатое пожертвование в пользу утонувших, спросил, как себя чувствует его — очевидно страдающий от какого-то недуга — благодетель. Затем с самым серьезным видом прибавил, что вверенный ему храм переживает трудные времена. В этом спокойном квартале объявилась коварная разбойничья банда, взимающая мзду с бедного Xань Сянцзы и его скромного слуги Доу Цззня (так, значит, звали бонзу[418]). Ван, глядя на собеседника сверху вниз, с интересом выслушал эту историю и после глубокомысленной паузы спросил, как мудрый Доу Цзэнь намеревается обезопасить себя от преступников.
Рассказ о том, что говорил бонза, строится с использованием косвенной речи, незаметно переходящей в несобственную прямую речь бонзы (со слов: «В этом спокойном квартале…»). На то, что дальше следует именно реплика бонзы, указывают выделенные мною слова, характерные для его — бонзы — лексики и миропонимания. Завершается эта фраза словами в скобках: «(так, значит, звали бонзу)», которые можно принять за комментарий Дёблина, но скорее они выражают мысль Вана, реакцию Вана на болтовню бонзы (его несобственную прямую внутреннюю речь). Дальше в тексте действительно говорится о реакции Вана. То есть читатель сначала воспринимает речь бонзы отстраненно, со стороны (как то, о чем ему только рассказывают, — как косвенную речь), потом переживает эту речь более непосредственно, как разворачивающуюся здесь и сейчас (несобственная прямая речь), потом переносится в сознание Вана и уже изнутри этого сознания оценивает речь бонзы.
Другой пример, диалог между Ваном и Чэнем:
Оба обвязали себе рты и носы шелковыми шарфами, которые принес Чэнь.
Сколько же их всего в горах Наньгу?
Была сотня, когда он уходил, сейчас — может, четыре согни, может, тысяча.
Почему так неопределенно — может, четыре сотни, может, тысяча? Как могли они так быстро умножиться в числе?
Они едины в своих взглядах. Они все много страдали. Они защищают друг друга.
Еще раз: кто он таков, откуда родом, какова его роль — у них?
Реплики, которые я выделила курсивом, скорее всего принадлежат Чэню, а за ними следуют ответы Вана. Но в тексте Дёблина они отделены одна от другой только тем, что каждая начинается с новой строки, — и, собственно, не маркированы как реплики (ни кавычками, ни тире). Поэтому данный отрывок многозначен: его можно понять как описание диалога, воспринимаемого изнутри сознания Чэня — или изнутри сознания Вана — или изнутри сознания Дёблина, который вспоминает (воображает себе?) этот диалог. Или перечитать несколько раз, последовательно становясь на каждую из этих позиций.