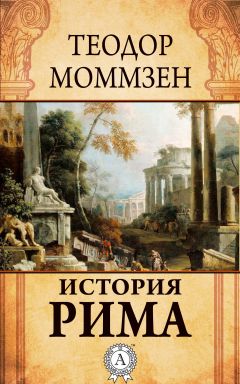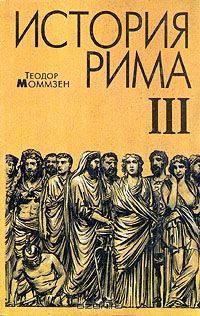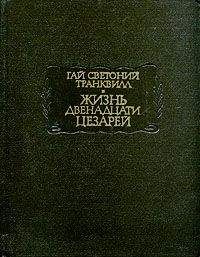Глава 12
АФРИКА И РИМ
Я никогда не писал об африканской войне и сомневаюсь, что когда-нибудь займусь этим. Не писал я и об окончании александрийской войны и о сражении под Зелой. Что же касается Египта, то мне как-то неловко писать о моей связи с Клеопатрой, а вся война с Фарнаком закончилась так быстро, что вряд ли стоит литературной обработки. Но африканская война длилась почти пять месяцев и оказалась чрезвычайно трудной. Я дважды чуть не потерпел поражение, и для будущих полководцев в ней найдётся несколько поучительных моментов. Однако я не расположен вновь переживать события тех дней, хотя, если хочу быть точным в своём описании, мне следовало бы это сделать. Мне кажется, что в той военной круговерти, называемой гражданской войной, на самом деле я был занят истреблением чего-то уже мёртвого. Подобные ощущения у меня появились и во время последней, кровавой схватки в Испании, при Мунде, — она произошла год назад.
Как ни странно, в Африке самым значительным событием для меня явилось известие о самоубийстве Катона, важнее даже, чем страшная бойня после Тапса; и я не замедлил взять на себя труд написать небольшой памфлет против самой памяти о Катоне. И не потому я сделал это, что считал Катона кругом порочным. Я находил его просто скучным, претенциозным, самонадеянным и, главное, лицемерным. Я ненавидел его не за то, что он ненавидел меня. Я ненавидел его самого, такого, каким он был. Но свой маленький памфлет «Анти-Катон» я написал не для того, чтобы потешить свою обозлённую душу, а желая повлиять на общественное мнение. Цицерон тогда уже опубликовал своего «Катона» — прелестное, хотя и сентиментальное, произведение литературы, — и мне показалось, что следует ответить на его предвзятые воспоминания об этом могущественном Педанте, потому что я понимал, мёртвый Катон оказался более опасным, чем когда он был живой. Уже появились люди, высказывавшие сентенции такого толка: «Это похороны республики», и в их намерения входило создать из Катона символ утраченных политическими деятелями ценностей. Его образ непримиримого борца за республику, обструкциониста, педанта, лишённого воображения, теперь украсят ореолом героической смерти и сделают из него носителя «древнеримских добродетелей», о которых мы читали в наших исторических книгах, — жаль, что подобные книжные образцы столь редко встречаются в реальной жизни. Катон, который предпочёл покончить с собой, лишь бы не позволить мне сохранить ему жизнь, будет причислен к лику великих мучеников за дело свободы. Боюсь, многие интеллигентные люди, вроде Брута, уже считают его таковым. Как же быстро они забыли, что «свобода», за которую умер Катон, в лучшем случае представляла собой абстракцию, а в действительности это понятие прикрывало несуразные и необузданные амбиции. Меня иной раз бесят мои критики, которые никак не хотят понять, что я не хуже их знаю о том, чем были в своё время человеческое достоинство, сила и простота в Римской республике. Я также испытываю глубочайшее почтение к прошлому, да иначе и быть не может, если учесть, что я потомок царей и согласно легенде ещё и богини. Но я не могу жить в мире снов, далёких от реальности; я не могу забыть, как постоянно в течение всей моей жизни понятие «добродетель» использовалось в оправдание всех видов обскурантизма, скаредности и насилия; я не терплю беспорядки и знаю, что без порядка не может быть никакой свободы. Я абсолютно убеждён, что с исторической и человеческой точек зрения прав я, а Катон ошибался. И всё же его дух не совсем отвечает тому, чем он мог бы быть, — и я чувствую, влияние Катона было бы сильнее, если бы то, что он представляет, являлось ложью, или бессмысленной абстракцией, или сентиментальным тяготением к воображаемому историческому прошлому. Это правда, что в частной жизни Катон зарекомендовал себя суровым и нетерпимым человеком, крайне скованным определёнными условностями в политике. В этом аспекте я являюсь его полной противоположностью, и поэтому особенно смешно делать Катона символом свободы, а меня — тирана. Но ничего не поделаешь — именно эта абсурдность и имеет место быть. Катона почти все считают погибшим за свободу. Огромная его карикатура, которую я сделал и затем выставил в виде плаката во время процессии в честь моего четвёртого триумфа, была плохо принята публикой. Думается, что его противопоставляют мне не по политическим мотивам, а скорее по религиозным. Его несгибаемость — вот что обожал в нём народ — качество, совершенно противопоказанное политику. Несгибаемость Катона была специфического, не от мира сего свойства. Зачастую казалось, что ему больше нравится быть на стороне проигравших. Он, скорее всего, и вправду верил в дикий, античеловечный девиз стоиков: «Пусть лучше рухнет весь мир, но справедливость должна восторжествовать» — и стал настолько самонадеян, что с полной уверенностью утверждал, что только он один знает, что такое справедливость. Такие качества народ обычно обожает в своём религиозном пастыре, а в реальной жизни эти качества ведут скорее к анархии, нежели к свободе. Как это ни парадоксально, но Катона, этого неумолимого приверженца буквы закона, совершенно справедливо можно считать анархистом, в то время как я, который при необходимости менял, обходил, преобразовывал множество законных препон, испытывал гораздо более глубокое уважение, чем Катон, к порядку в жизни общества. Катон только в том случае мог считаться борцом за свободу, когда он отстаивал свободу личности. Я же занят больше проблемами практической деятельности, чем своей личностью, и могу сказать без проволочек, что, если движимые некоей философской или религиозной доктриной люди отказываются, например, от службы в армии, порядка в жизни в таком случае не будет. Однако я очень жалел, что мне не пришлось спасти жизнь Катона.
Когда я получил известие о его самоубийстве, именно в тот момент я меньше всего был склонен к милосердию. Потому что в той африканской войне мои враги сражались с какой-то невероятной безрассудностью и дикостью. Почти всех своих пленников они убивали. Этим занимались Бибул, Лабиен и надменный дикарь, царь Юба, который уничтожил всех, кто остался в живых, из армии Куриона. Теперь это стало каждодневным их занятием. Когда Сципион захватил один из моих кораблей, то либо убил, либо продал в рабство всех солдат, находившихся на борту. После этого он предложил сохранить жизнь одному из командиров, Гранию Петрону. Мне потом передали, как ответил Петрон. «В армии Цезаря мы привыкли оказывать милосердие, — сказал он, — а не принимать его». Потом он упал на свой меч и умер. Этот благородный поступок остался единственным в той войне. Правда, до самого её окончания мои солдаты соблюдали дисциплину, но внутренне озлобились настолько, что, когда настал час отмщения, ничто не могло остановить их.
На той войне я собирался использовать десять легионов, пять из которых состояли из ветеранов. Но получилось так, что из-за мятежа и недостатка транспортных средств я высадился в Африке только с пятью легионами, четыре из них состояли из неопытных и недостаточно подготовленных рекрутов. Стояла зима, и хотя я, как всегда, явился неожиданно для врага, хорошо подготовленные войска противника во главе с отличными командирами не растерялись. Вскоре после прибытия моё небольшое войско было сильно потрёпано кавалерией и лёгкой пехотой Лабиена и Петрея, проявивших при этом большую смышлёность. В ту ночь мы, к счастью, успели укрыться в своём лагере. Но даже с прибытием остальных пяти легионов мы продолжали испытывать большие трудности. У нас недоставало провизии, вражеская конница, пользуясь численным преимуществом, постоянно угрожала нашим коммуникациям. Я надеялся вызвать противника на бой в условиях, когда незаурядные воинские способности моих солдат сыграют свою роль, как это было при Фарсале, но противник не пошёл на это. Прежде чем состоялось сражение, прошло четыре месяца.
В Тапсе, расположенном между лагуной и морем, я занял позиции, на которых теоретически врагу давалась возможность отрезать меня полностью от снабжения продовольствием и победить, организовав осаду. Чтобы это сделать, противник должен был разделить своё войско и построить две линии траншей. Возможность покончить со мной заставила врага пойти на этот шаг. По-видимому, он проглядел моё намерение не защищаться, а нападать. Всё началось утром, ранней весной. Когда я отдал приказ к бою, ни у меня, ни у моих воинов не было никаких сомнений в его исходе. И действительно, в своём исполненном энтузиазма порыве солдаты десятого легиона на нашем левом фланге опять оказали неповиновение. Они заставили одного из своих трубачей протрубить атаку прежде, чем я отдал приказ о её начале, и отказались подчиниться своим центурионам, которые попытались вернуть их, когда они уже бросились на врага. Я был разгневан, но мне не оставалось ничего другого, кроме как последовать их примеру. Позднее я сообразил, что эти люди, одержавшие так много побед для меня, точно оценили преимущество позиций, на которые я их поставил, и, конечно, проявили нетерпение, которое испытывал и я сам. Эта битва очень скоро закончилась. Первая и главная атака пришлась на долю армии Сципиона с приданными ей слонами. У меня были солдаты, знавшие, как обращаться с этими животными, и в результате слоны нанесли больше вреда их собственным хозяевам, чем нам. Пехота противника скоро сломалась. Мои ветеранские легионы были в состоянии какой-то неумолимой ярости, которая давала им силы противостоять даже значительно превосходящим силам противника. Что до других вражеских войск, то большая армия под командованием Юбы и Афрания уже при виде того, что случилось с легионом Сципиона, начала разбегаться. Мы захватили и разграбили оба лагеря — Сципиона и Юбы. Большая часть вражеской конницы ускакала, а беспомощная пехота осталась и подверглась такому же жестокому истреблению и ярости моих солдат, которые до этого демонстрировали их военачальники: мои солдаты вышли из-под контроля своих трибунов и центурионов. В тот ужасный день не меньше пятидесяти тысяч человек со стороны врага были убиты. Мы потеряли около пятидесяти человек. Что касается вражеских военачальников, то Сципиона мы перехватили в море, где он и покончил с собой. Афраний и сын Суллы, Фавст, попали в плен и были казнены. Царь Юба, сбежавший в компании с Петреем, хотел через свою смерть обрести славу, которая ускользала от него на протяжении всей его жизни. Он намеревался вернуться в свою столицу Заму, там сложить громадный погребальный костёр и сжечь себя на нём вместе со всеми своими богатствами, со всей своей семьёй и со всеми самыми выдающимися своими подданными. Но его подданные не выразили согласия с его романтическими планами и закрыли ворота города перед самым носом царя. Тогда Юба — артист до последнего дыхания — организовал дуэль между собой и Петреем, выдвинув условие, что ни один из них не должен остаться в живых. Петрей пошёл на эти варварские условия. В результате остался в живых только один важный преступник — Лабиен, который сумел удрать и добраться до Испании, где уже устроились Гней, жестокий и дикий сын Помпея, и его гораздо более привлекательный брат Секст.