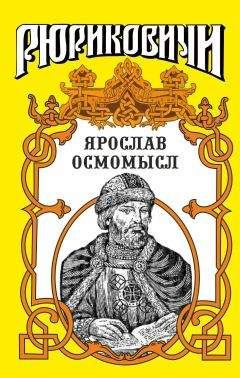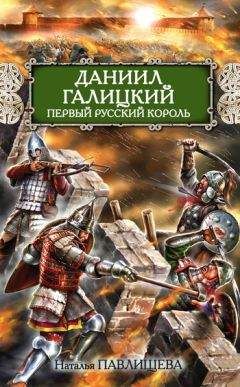После свадьбы княжича Ярослава с Ольгой и отъезда их восвояси в Галич, между двух друзей пробежала чёрная кошка. Первым начал возмущаться Олекса. Он сказал:
- Ты, я погляжу, примирился со своим положением, хочешь оставаться изгоем, на чужих задворках. Мне сие не по нраву. Будь что будет, но хочу вернуться домой.
У Ивана от гнева побелели глазные радужки:
- Предаёшь? Сбегаешь?
- Называй как знаешь. Я надеялся долго. Но теперь, когда Долгорукий не пойдёт на свата и зятя, не видать нам Звенигорода и Галича как своих ушей. Так чего терять?
- Есть ещё надежда! - закричал Берладник неожиданно звонко.
- Где, какая? - усомнился вельможа грустно.
- Изяслав.
Оба замолчали, вперившись глазами друг в друга.
- Изяслав? - наконец повторил Прокудьич. - Но каким боком - Изяслав? Он тебя не любит и в союзники брать не станет.
- Он меня не любит, конечно, - согласился приятель, - но намного больше ненавидит Владимирку с Долгоруким. Если Изяслав мне поможет разделаться с первым, я ему помогу разделаться со вторым и усесться в Киеве.
Думая о сказанном, галицкий боярин спросил:
- Разве это не грех - задружиться с Гюргеем, принимать от него почести и блага, а потом оказаться в стане его врага?
- Может быть, и грех, - согласился Иван. - Но нельзя жить и не грешить! Мы грешим уже своим появлением на свет. Тем, что дышим, забирая у других воздух, и едим, и пьём, обделяя ближних, женимся на чужих невестах, вызывая зависть… Рыба ищет, где глубже, человек - где ему сподручней… Мне теперь сподручней у Изяслава. Он подался во Владимир-Волынский, к собственному сыну. Я поеду туда же. Ты со мною, Олексе? - И Берладник, взяв его за лоб, запрокинул голову товарища, заглянул в глаза: - Или нашей дружбе конец?
Собеседник не выдержал тяжёлого взгляда, смежил веки и проговорил:
- Я не верю больше в твою удачу. И как другу даю совет: вспомни о словах Чарга. Возвращение наше на Русь ничего хорошего не дало. Надо образумиться. Всё вернуть на круги своя. Мне - обратно в Галич, к детям и жене. А тебе - в Берлад. Больше нет спасения.
Оттолкнув соратника от себя, Ростиславич сказал с презрением:
- Ах ты смерд, холоп! Покидаешь меня в трудную минуту. Столько вместе перенесли, столько пережили… И, выходит, напрасно? - Он шагнул к окну, посмотрел наружу. - Что ж, ступай, катись! Прыгай на жену, сделай ей шестого ребёнка. Но учти одно: ни одна супруга не заменит тебе друга, побратима, наперсника. Ни один из твоих наследников не пожертвует жизнью ради тебя, как я. Помни это, Олексе. Помни, помни, что не я, а ты ушёл первый. И не забывай до последнего вздоха. Всё, прощай!
Галичанин встал. Посмотрел в спину приятеля, отвернувшегося к окну, сделал шаг вперёд - видимо, желая обнять, но махнул рукой, отвернулся сам и уже от двери бросил через плечо:
- Что ж, прости и ты, коли пожелаешь…
Городок Владимир-Волынский был намного беднее Галича. И сама Волынь, примыкая с юга к Пинским болотам, средь дорогобужских и луцких лесов, не имела таких угодий и пастбищ, виноградников и садов. Но, с другой стороны, находясь посреди пути между Киевом и Польшей, занималась торговлей и играла не последнюю роль в жизни Западной Руси. А волынский князь Мстислав Изяславич обладал не меньшим влиянием, чем его, допустим, черниговская или новгородская родня.
Изяслав, изгнанный из Киева, убежал к сыну во Владимир-Волынский.
Оба они - отпрыск и родитель - внешне чрезвычайно похожие, по характеру сильно отличались. Большеротые, пучеглазые, в бородавках, смахивали на жаб; ели много и шумно, к чужакам относились подозрительно; но отец, более агрессивный, злой, жестокий, жить не мог без борьбы, интриг, столкновений с врагами; а наследник поступал не столь импульсивно, осторожнее, хладнокровнее. Говорил неспешно: «Для чего суетиться, если Долгорукий и сам не продержится в Киеве больше года? Киевляне суздальцев не любят - или прогоняют, или травят. Скоро ты вернёшься на Днепр». - «Нет, - кричал Изяслав, - не могу ничего не предпринимать! Я поеду к королю ляхов Мешке: он вдовец и пускай берет в жены младшенькую мою - Евдокию. А взамен пришлёт войск и денег. А затем подамся к королю унгров Гейзе, моему зятю, тоже за подмогой. Против нашей силы у Гюргея кишка тонка будет!» - «Да зачем теперь ехать-то? - сомневался Мстислав. - В зиму глядя? По весне уж - куда ни шло». - «По весне поздно будет!»
Неожиданный приезд во Владимир беглеца из Киева - Ивана Берладника - сильно озадачил обоих. Поначалу подумали, что ему доверять опасно, - вдруг его заслал Долгорукий для разведки? Или, вероятно, для убийства соперника? Ухо надо было держать востро. Но потом случилось событие, изменившее отношение волынян к звенигородцу.
Дело было на праздник Введения во храм Пресвятой Богородицы - 21 ноября. Евдокия Изяславна накануне отъезда в Польшу посетила женский Святогорский монастырь, где молилась долго, а когда возвращалась во Владимир, неокрепший лёд на Буге не выдержал, и её сани угодили под воду. И княжне бы не выплыть, если бы несчастье не узрел с берега Иван. Не раздумывая нимало, он рванул к полынье и нырнул за девушкой. Перепутав, поначалу вытащил подругу-боярышню, а потом, со второго раза, и саму дочку Изяслава. Мокрых и продрогших, их доставили во дворец, отогрели в бане, отпоили тёплым вином и растёрли барсучьим жиром. Как ни странно, но никто из принявших ледяную ванну не схватил даже насморка. А Берладник сделался отныне героем и первейшим другом княжеской семьи.
- Вот что, мой любезный, - говорил ему отец Евдокии, - я пробуду в Кракове месяца полтора, не меньше. Свадьба, переговоры, всё такое. И боюсь упустить драгоценное время, не успею посетить унгорского короля. Отправляйся-ка лучше ты к нему, приложи все силы, чтобы он решил мне помочь. Кстати, заодно и себе поможешь: общим войском по пути на Киев завернёте с унграми в Галич, разобьёте пакостного Владимирку. Что, согласен?
Благодарный сын Ростислава, опустившись на правое колено, преклонил перед князем голову: этот жест означал, что Иван признает его первенство и отныне будет повиноваться.
Он, конечно, мог Звенигород обогнуть, не дразнить гусей, но азарт и ребячество взяли верх. «Кто меня узнает через столько-то лет? - размышлял Берладник, приближаясь к собственной старой вотчине. - Поглазею на родные места, загляну к Людмилке - как она провела эти годы, подурнела, чай? День да ночь, не боле, а затем опять в путь-дорогу». И велел своим провожатым дожидаться его в небольшой деревеньке Пустомыты, что в полуторе вёрстах от заветной крепости.
А Людмилка была его прежняя любовь - из зажиточных горожан, но отнюдь не боярышня. О женитьбе у них речь не шла: он как Рюрикович взять себе простую не мог. В общем, крутили шуры-муры, о которых судачила вся округа.
В Пустомытах Иван облачился в типичное крестьянское одеяние - свиту из сермяги, шубу, валенки и треух, в руки взял котомку и посох; а поскольку день тому назад наступили Святки, толпы колядующих шастали по дворам и улицам, то и присоединиться к одной из них и пройти в город незамеченным не составило для него труда.
На Торжке было, как всегда, многолюдно, лавки пестрели тысячами товаров - от горшков и бочек до заморских тканей и кож, от куриных яиц до сегодня выловленных рыб. Слышались крики зазывал, поросячий визг и ругня торговок. А на паперти нищие приставали к прохожим, христорадничая напористо, и бессовестно сплёвывали вдогонку тем, кто из жадности им не подавал.
Вроде бы и не было этого пятилетия; время шло, а в Звенигороде ничего не менялось.
- Ты откуда, дядя? - обратился к нему торговец квашеной капустой и мочёными яблоками.
- Я-то? Из Пустомыт, - отвечал Берладник.
- Из Пустомыт? - почесал в затылке папаша. - Что-то я не помню тебя. Из каковских будешь?
- Не, из Пустомыт я теперь, а вообще-то из Теребовля.
- И-и, не ближний свет! И каким же ветром тебя занесло-то в наши края?
- Дочку навещал. Дочка замужем за звенигородцем.
- Сколько ж лет тебе, коли дочка замужем?
- Скоро сорок стукнет.
- А на вид не дашь больше тридцати.
- Значит, хорошо сохранился.
Оба посмеялись. Тут Иван и сам вроде между прочим спросил:
- А наместником кто у вас? Всё Иван Халдеич?
- Нет, Халдеич помер. Князь прислал из Галича нового болярина - звать его Олекса Прокудьич.
- Что? Олексу? - выкатил глаза собеседник; но потом, опомнившись, пояснил своё удивление: - Он, слыхал я, убегал от гнева Владимирки с бывшим звенигородским князем… Что ж, теперь прощён?