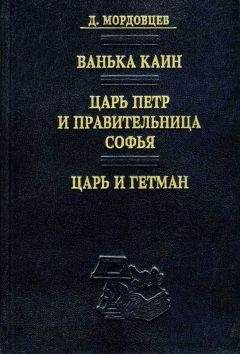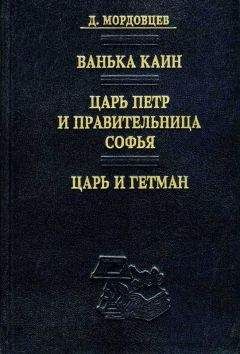«Бысть человек послан от Бога… к своим прииде, и свои его не познаши», — невольно повторяется евангельский стих.
— Сеять… сеять подобает на новой ниве, — говорил как бы сам с собою старик. — А сеятели лукавы суть…
— Какие сеятели, отче?
— Лукавые… Один — Дорошенок, гетман сегобочный, другой — Самойлович, гетман тогобочный… Оба они сеют на чужое поле, — продолжал старик про себя, не поднимая головы.
— А третий сеятель?
— Мазепа…
— Осавул енеральный?
— Он… Се — диавол в образе сеятеля… Плевелы он сеет, и заглушат сии плевелы всю Украину…
— Да он еще не гетман.
— Будет гетманом… Гетманскую булаву ен уже носит за пазухою, у сердца лукавого.
— А Дорошенко и Самойлович?
— Дорошенок на турскую ниву сеет словенское добро, а Самойлович — на московскую, на боярскую… никто не сеет на свою ниву, на народную…
Крижанич остановился. Сгорбленная спина его выпрямилась. Он положил руку на плечо Палия и глянул ему прямо в очи.
— Семен Иванович!.. — сказал он медленно.
Палий вздрогнул от этих слов — он точно испугался чего и с недоумением глядел на старика.
— Как ты познал мое имя? — робко спросил он.
— Я давно его знаю и тебя знаю, — загадочно отвечал Крижанич. — Хочешь добра земле своей?
— Хощу — видит Бог.
— Помнишь историю народа израильского?
— Помню.
— И работу египетскую?
— Помню, отче.
— И Моисея?
— Все помню.
— Будь же Моисеем народа украинского… Изведи из плена латинского в сию Палестину… Помни, сын мой, что сила народов — в согласии их… Когда оживет пустыня сия и кости сухия восстанут и будет собор много зело — соедини десницу народа украинского с шуйцею, тогобочную страну с сегобочною, и тогда не страшно для вас будет жало латинское… Жало сие — злее жала скорпия для словенского рода: Польша уже гнить начинает от сего змеиного яда — и сгниет она… А вы останетесь и живи будете… Придет время, вы познаете других братьев своих — словен… О! Много горького будет между братьями — горькую чашу испити имать род словенский… Но горечь сия, верь мне, будет ему во спасение… Только помните: concordia parvae res crescunt…
Крижанич остановился, как бы что-то припоминая. Палий не прерывал его молчания — он был слишком взволнован.
— Прими же мое благословение, — снова заговорил Крижанич, — и не забывай меня, сын мой… Не забывай и словес моих — не мои то словеса, а Божьи: я умру, а словеса сии не умрут… Я теперь иду на родину и там на краю гроба, став ногою у самой могилы своей, крикну к словенскому роду: «От четырех ветров прииди, о душе словенеск, и вдуни на мертвые сия, и да оживут!..»
…………………………………………………
Много лет прошло со времени встречи Палия со старым энтузиастом Крижаничем. Сам Палий стал уже ветхим, хотя бодрым, стариком. И Крижанич, и Дорошенко, и Самойлович отошли в вечность. Мазепа вынул гетманскую булаву из-за пазухи и царствует над Украиною в качестве холопа царей московских…
А Палий все засевает «руину» новою человеческою пшеницею… О! Как мощно взошла новая великая нива украинская! Какой налила богатый, ядреный колос яровая пшеница Заднепровья!
Бывшая «руина» опять превратилась в страну, текущую молоком и медом… Ожила заднепровская казаччина… Сухие кости ожили — и стал собор много зело…
Как оживали эти сухие кости, как скреплялись жилами, покрывались плотью и кожею — об этом, благосклонный читатель, зри почтеных историков — Соловьева, Костомарова, Антоновича, Кулиша, и в особенности Костомарова, который уже заготовил и полотно, и краски, и кисти для создания великой картины «руины» и ее воскресения… Я же, благосклонный читатель, поведу тебя туда, куда не смеет проникнуть историк, и покажу то, чего историк показать не может. Я поведу тебя в область творчества, черпающего свои идеалы из архива более обширного, чем все архивы государства, открытые историку, и, не отступая от исторической правды, покажу тебе самую душу исторических деятелей: для нас открыты самые сокровенные думы Палия; мы проникнем в темную глубину души Мазепы; мы подслушаем, как бьется сердце у спящей Мотреньки, о чем грезит эта «неслухъяна дитина…»
Не спится и старому Палию в эту жаркую ночь, как не спится Мотреньке… Мотреньке не дают спать молодые грезы, беспокойное сердце колотится под горячею от жаркого тела сорочкою, а Палию не дают спать старые думы…
О! Многое думается этой сивой, почти столетней голове казацкого батька… Вон каким пышным цветом цветет «руина», некогда представлявшая обширное разрытое кладбище, усеянное сухими костями казацкими. Вот бы теперь прийти сюда тому старцу словенскому, Юрию, который благословлял эту степь своею старою дрожащею рукою, да поглядеть на нее да поплакать от радости…
И усталые от бессонницы очи Палия плачут теплыми, хорошими слезами. Нет, не прийти уж, верно, старцу Юрию, — где прийти! В могиле, поди, отдыхают его святые, нывшие за словенский род старые кости…
Тихо так кругом, сонно… Палий выходит из своего дома, что в Белой Церкви, садится на рундучке и думает, думает, думает… Что за тихая ночь! Темное небо усеяно звездами — много их, как много казаков на всей этой степи, по всей Хвастовщине и по Полесью… Вот уж сколько лет, словно пчелы за маткою, летят в Хвастовщину казаки и голота со всех концов — все до Палия, до батька казацкого… И запорожцы чубатые идут «погуляти», и волохи черномазые целыми поселками валят в Хвастовщину, и подоляне идут сюда же, и Червонная Русь, и Волынь — все бредет в царство батька козацкого, Палия Семена Ивановича… Мазепинцы, левобережные, словно саранча, летят сюда же, и нету им удержу — не устеречь их караулам мазепиным… И лютует на Палия старый лукавый Мазепа. Да и как не лютовать ему! Сам видит, что у Палия житье людям привольнее, чем у него, в гетманщине… А сам и виноват же… Лядским ладоном прокурен Мазепа Иван Степанович, ляхом смердит от всего духа мазепинского — так и остался старым королевским пахолком, что блюда лизал в королевских передних, да и всех молодых знатных казацких сынов в пахолков перевернуть хочет… Где ж тут, у чертовой матери, хотеть, чтоб казаки его любили! Вон он, старый пахолок, панство на Украине расплодить хочет — мало польское панство залило сала за шкуру народу украинскому! «До живых печенок» дошло это панство! А он и свое, казацкое панство на поругу народу разводит…
А эти ляшки — панки, словно осы в улий с медом, забрались в Украину, да так и гудут около Мазепы в охотницких, да компанейских, да сердюцких полках… Так и этого мало — надо своих трутней в улей напускать… Ну, и напустил бунчуковых товарищей, землю у поспольства отнял, панщину завел вражий сын, да еще и на старого Палия лютует…
То-то… Засел в свой Батурин, окопался, как в чужой земле, и носу показать без сердюков да московских стрельцов не смеет… Пропадет за ним милая Украина!
Вон недавно проезжал через Хвастов к святым местам поп московский, отец Иоанн, по отчеству Лукьянов, так говорил «не абы яке» про Мазепу…
— Крепко сидит там гетман? — спрашивал попа Палий.
— Да крепок-то он только стрельцами — и он, и Батурин его, на караулах все москали стоят, целый полк стрельцов живет в Батурине, Анненков полк с Арбату…
— А народ — поспольство?
— Яко собака перед горячею кочергою… Коли б не стрельцы, то б хохлы его давно уходили, что медведя в берлоге, только стрельцов и боятся, а он без них не ступит и шибко жалует их — все им корм, да корм, да пития всякие…
Недаром сегодня Палий, проходя по рынку, слыхал, как старый запорожец «на бандуре выгравав, та словами промовляв»:
Хоч у нашего Семена Палия и не велике вийсько охотнее
Тилько одна сотня, да и та голая.
Без сорочок и штанив, тилько з очкурами.
А буде та сотня голая,
Буде та сотня бесштанная,
Буде паньскую тысячу убраную,
Аксамитом крытую,
Шовками пошитую —
Буде мов череду гнати,
Упень рубати,
Буде великим панам великий страх завдавати…
А казаки да голота слушают да смеются, так и «регочут» на весь рынок… «Добре! Добре, брате, граешь… правду промовляешь!..»
И радостью искрятся старые очи Палия при этом воспоминании… Доброе что-то проходит по его ветхому, такому же, как и в детстве, кроткому, лицу…
— Добри в мене дитки — козаки… Хоч голи — та весели… Да и поп этот московский, отец Иоанн Лукьянов, что от святых мест ехал на Белую Церковь — «таке чудне попиня» … Турки, что провожали его с купцами по степи, боятся, говорит попик, Палия…
— Мы б вас с радостью и до Киева проводили, говорят, да боимся Палия вашего: он нас не выпустит вон от себя… тут-де и побьет…
— Чудни турки…
— То-то чудны. У нас, говорят, про Палия страшно грозная слава.