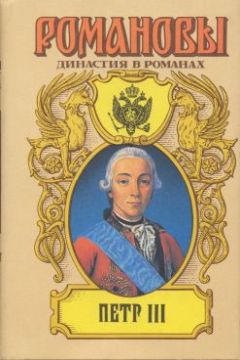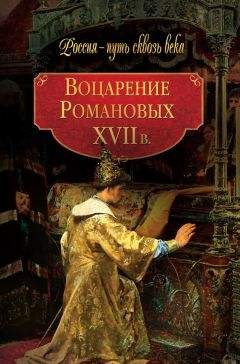Посредине комнаты сидела графиня Елизавета Воронцова, возлюбленная великого князя, не скрывавшая ни пред кем своей близости с будущим императором. Это была высокая, стройная особа, хотя излишняя худоба несколько портила её фигуру. Её бледное желтоватое лицо можно было бы назвать почти безобразным, если бы его не украшали прекрасные, живые глаза, постоянно менявшие своё выражение и придававшие её лицу особенную привлекательность. В эту минуту графиня Воронцова казалась испуганной, а её взоры боязливо блуждали по сторонам, точно высматривая, откуда грозит опасность.
Рядом с возлюбленной великого князя стоял майор Андрей Васильевич Гудович, украинский казак, которого Елизавета Петровна назначила адъютантом великого князя, чтобы противодействовать влиянию голштинских офицеров.
Гудовичу было в это время около тридцати пяти лет; по своей наружности и характеру он был типичным сыном своей родины. В чертах его лица выражались сила и мощь, а тёмно-синие глаза смело и открыто глядели на Божий мир. Зелёный, расшитый золотом мундир адъютанта ловко облегал его стройную, мужественную фигуру. Рука молодого офицера покоилась на эфесе шпаги, как будто он готовился вступить в бой.
В самом углу комнаты, весь съёжившись, сидел майор фон Брокдорф, один из голштинских офицеров, любимец Петра Фёдоровича. Его некрасивое лицо с маленькими заплывшими глазками выражало высшую степень трусливой растерянности.
Увидев входящего великого князя, графиня Воронцова бросилась к нему навстречу и повисла на его шее.
– Что случилось? – тревожно спросила она, – что означают разгуливающие здесь гвардейцы? Неужели они пришли для того, чтобы прогнать нас? Куда же мы денемся? К кому нам обратиться?..
Брокдорф спрятался ещё глубже в угол, а Гудович спокойно и решительно подошёл к Петру Фёдоровичу и стал с недоумением разглядывать незнакомого молодого человека в крестьянском костюме, который вошёл вместе с великим князем. Лакеи тоже ближе придвинулись к дверям, с любопытством ожидая, что скажет великий князь.
Пётр Фёдорович с трудом перевёл дыхание, запыхавшись от быстрой ходьбы, затем гордо выпрямился и с сияющими глазами сказал взволнованным голосом:
– Для нас нет никакой опасности; с какой бы целью ни вызвали сюда гвардию, нам нечего беспокоиться. Императрица умерла, – прибавил он, прижимая руку к сильно бьющемуся сердцу, – и я – император. Вытащи свою шпагу из ножен, Андрей Васильевич, и отдай честь своему императору! А ты, Романовна, подними повыше голову!.. Скоро ты пред всем светом займёшь место рядом со мной и разделишь мой трон. Конец преследованиям; теперь только я один повелеваю в России.
Графиня Воронцова вскрикнула от радости и таким властным взглядом окинула всех, точно уже сидела на троне и видела всё государство у своих ног.
Брокдорф вскочил с места и, весь покраснев от удовольствия, подошёл к великому князю.
Только один Гудович оставался таким же спокойным и серьёзным, как и раньше.
– А вы вполне уверены, ваше императорское высочество, что это действительно так? – спросил он. – Несколько раз уже распространялись слухи, что её императорское величество скончалась, и до сих пор эти слухи оказывались ложными.
– Нет, нет, теперь это верно! – воскликнул Пётр Фёдорович. – Все видели, как она свалилась в театре. Слышите, какой там шум и суета? Наполните стаканы и выпейте за моё здоровье, а также и за здоровье графини Елизаветы Романовны Воронцовой! Сегодня мы можем себе всё позволить, – смеясь прибавил Пётр Фёдорович, – можем пить сколько угодно, не опасаясь выслушать завтра нотацию.
Затем он подошёл к столу, наполнил большие кубки крепким венгерским вином и поднёс свой стакан к губам; но в этот момент Гудович, почти подбежав к великому князю, отнял у него наполненный кубок.
– Если действительно государыня императрица умерла, – строгим голосом проговорил он, – то новому императору предстоят очень важные дела и теперь не время затемнять свой разум крепким вином. Император должен сохранить вполне ясными свои умственные силы, чтобы достойным образом исполнить высокие обязанности, которые он берёт на себя и в которых ответствен пред русским народом и памятью великого Петра.
Пётр Фёдорович сначала с удивлением смотрел на своего адъютанта, затем его лицо стало багровым от гнева, а жилы на лбу напряглись и резко выделились.
– Что ты себе позволяешь, Андрей Васильевич? – сердито спросил он. – Ты, кажется, совсем позабыл, кто я и кто ты? Я знаю, что императрица приставила тебя ко мне в качестве соглядатая и шпиона, но ты был хорошим товарищем и потому я тебя любил и относился к тебе по-дружески. Как же ты позволяешь себе теперь такую дерзость? Ты заставляешь меня раскаиваться в моей доброте! Берегись! Клянусь Богом, что ты первый пройдёшься по Владимирке, узнаешь сибирские морозы.[3]
Великий князь весь дрожал от гнева, но Гудович спокойно выдержал его грозный взгляд.
– Если государыня императрица действительно умерла, – повторил он, – то в вашей власти заключить меня в крепость или послать в Сибирь, даже на эшафот; вы будете иметь на это право, если я не исполню в такой важный момент своей обязанности и не остановлю вас. От имени всего русского народа, который сам не в состоянии говорить с вами, я умоляю вас, ваше императорское высочество, сохранить ясность ума и чувств. Я, как сын этого народа, русский до последней капли крови, имею право и считаю своей обязанностью напомнить вам о той ответственности, которую вы берёте на себя, управляя великим государством Петра Великого. Я буду просить Господа Бога и всех святых угодников просветить разум вашего императорского высочества. Забудьте теперь о вине, о весёлых попойках, которые были извинительны для бездеятельного великого князя и совершенно недопустимы для императора, берущего на себя трудную задачу управления государством.
– Какая дерзость! Что за нахальный тон! – воскликнул Брокдорф, подойдя к великому князю.
Пётр Фёдорович был вне себя. Бессвязные, непонятные слова срывались с его дрожащих губ. Он схватился за шпагу, чтобы броситься на дерзкого, ничего не боящегося адъютанта, но графиня Воронцова удержала его.
– Погоди, – проговорила она, удерживая руку великого князя, – он прав. Нам нужно подготовиться, чтобы должным образом встретить великое событие; нам необходимо обсудить, как поступать дальше. Теперь не время веселиться и затемнять вином свой разум.
С этими словами графиня поставила на стол свой нетронутый бокал.
– Но как он смеет приказывать мне? – продолжал негодовать великий князь. – Если он даже тысячу раз прав, то всё же он не смеет противоречить мне, сопротивляться моей воле. Кто не исполняет моей воли – воли монарха, – того я разобью так же, как этот стакан.
Пётр Фёдорович вырвал бокал из рук майора Гудовича и бросил его на пол. Послышался звук разбитого стекла, и вино разлилось по паркету.
Как бы облегчив своё сердце этим поступком, великий князь глубоко перевёл дыхание и несколько минут стоял молча и потупившись.
В коридоре послышались быстрые шаги, и в комнату вошёл взволнованный Лев Нарышкин.
– Панин желает видеть вас, ваше императорское высочество! – доложил он.
– Ага, являются! – воскликнул Пётр Фёдорович с довольной улыбкой (от его недавнего гнева не осталось и следа). – Я так и знал: стоит взойти солнцу – и всем им захочется погреться в его лучах. Ну, пусть войдёт!
Нарышкин ввёл Панина в салон и предусмотрительно запер за ним дверь.
Панин, в течение многих лет бывший в немилости у русского правительства, жил некоторое время в Швеции, откуда был выписан Елизаветой Петровной для воспитания маленького великого князя Павла Петровича. Когда он вернулся в Россию, ему было уже около сорока лет. Высокая, представительная фигура Панина вполне соответствовала его тонким, благородным чертам лица, которое поражало выражением горделивого сознания собственного достоинства и холодной учтивости. На придворном костюме Панина красовался орден Александра Невского. Несмотря на то, что императрица выказала теперь особенную милость Панину, назначив его воспитателем любимого внука, она не решалась ещё пожаловать Панину высший орден Андрея Первозванного, что очень оскорбляло тщеславного вельможу. На голове Панина был огромный парик, искусно причёсанный, с тремя спускающимися вниз косами, вызывавшими всеобщие насмешки и придававшими воспитателю маленького великого князя чрезвычайно своеобразный вид.
– Что скажете, Никита Иванович? – спросил Пётр Фёдорович. – Вероятно, вы пришли ко мне, чтобы просить оставить вас и впредь воспитателем моего сына? Если бы не то обстоятельство, что вы почитаете короля прусского и его величество, как мне известно, ценит вас, то я, конечно, послал бы вас к чёрту.
Панин с некоторым удивлением и холодным спокойствием смотрел на великого князя.