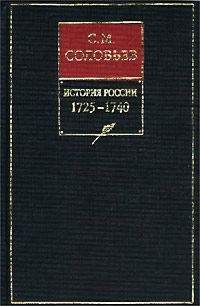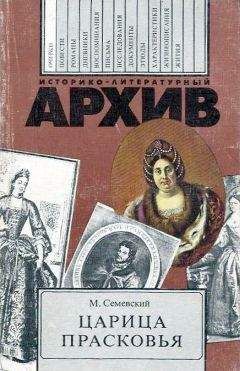Она по-немецки писала ему о перемене в отце, об его вспышке и о том, что он вдруг выразил желание стать тираном её души в противность тому просвещению, которое столь свойственно всему роду Бестужевых. О Волконском, разумеется, в письме не было и речи. Да и не о нём теперь беспокоилась Аграфена Петровна. Ей важно было выяснить при помощи брата, неужели, если действительно она полюбит кого-нибудь, то отец может положить запрет на её свободную любовь, на лучшее чувство её души?
Анна Иоанновна в этот вечер тоже долго не ложилась спать и тоже писала. Она писала медленно, постоянно морщась и с неимоверным трудом обдумывая «штиль» своего письма. Вернувшись домой, она быстро скинула своё ярко-жёлтое платье и тут же подарила его камеристке, потом прогнала всех из комнаты и села писать прямо к дяде-государю. Она долго перечёркивала, переписывала и переделывала, но, составив, наконец, слёзную жалобу на Бестужева царю Петру, перечитала её и изорвала. Она положительно не могла написать так, как следовало. Все письма к государю сочинял ей сам Пётр Михайлович, и теперь некому было заменить его.
«Господи, что же делать мне?» – спрашивала себя Анна Иоанновна. – Матушке написать, она – моя единственная защитница, – решила она, и уже без помарок и перечёркиванья, написала многословное послание к царице Прасковье, в котором жаловалась на терпимые ею в Курляндии притеснения и просила, чтобы матушка умолила своего деверя-царя отозвать отсюда Бестужева. – Ну, Пётр Михайлович, посмотрите вы с вашей Аграфеной теперь! Уж я терплю-терплю, а потом добьюсь своего, посмотрим… Заговорите вы, как уберут вас отсюда!» – думала она, заранее радуясь тому, как «разжалуют» Бестужева, в чём она не сомневалась, надеясь, что государь ни в чём не откажет своей покорной золовке.
На другой же день Пётр Михайлович узнал, что герцогиня послала уже рано утром секретного гонца в Петербург с собственноручным письмом к матушке-царице Прасковье. Цель этого послания и содержание письма были ясны Бестужеву.
Когда он по обыкновению приехал к герцогине утром с докладом, та не приняла его. Дело выходило серьёзным, так как Анна Иоанновна, видимо, начала открытую борьбу, и Пётр Михайлович задумался, не зная на этот раз силы противника. На такой явный разрыв с ним герцогиня могла решиться, только заручившись твёрдою поддержкою в Петербурге, а Бестужев знал, что такая поддержка не невозможна для неё. Он выждал несколько дней, не одумается ли Анна Иоанновна и не пришлёт ли за ним; но она не присылала. Тогда он ещё раз попробовал явиться в замок, но его опять не приняли. Очевидно, герцогиня не боялась его.
Пётр Михайлович дома ходил сердитый, не в духе, упрекал дочь за случившееся, и его обхождение с нею совершенно изменилось. В обществе он старался казаться равнодушным и весёлым, но многие замечали, что это равнодушие и веселье служили только маскою для того беспокойства, от которого не был в силах отделаться Бестужев.
Анна Иоанновна, в ожидании ответа из Петербурга на своё послание, переехала жить в Вирцау, и – странное дело – митавский замок с отъездом хозяйки не только опустел, но, напротив, в нём проснулась жизнь. Население замка, не стесняемое теперь присутствием герцогини, оживилось, в саду появились гуляющие, на дворе показалась прислуга, в окнах дольше обыкновенного по вечерам блестели огни, и только покои герцогини темнели по-прежнему.
Волконский с утра выходил в сад, не боясь уже встречи с герцогиней, и подолгу гулял там со своею книжкой.
Он находился теперь в самом блаженном состоянии счастливого влюблённого и, наслаждаясь воспоминаниями бала, думал только об Аграфене Петровне и искал с ней встречи.
Черемзин рассказал ему, что на днях будет храмовый праздник в церкви Освальдского замка, где жил старый граф Отто, и что в этот день вся Митава бывает у него в гостях. Князь Никита сейчас же подумал, что, наверно, там будут Бестужевы и что хорошо было бы попасть туда, если это возможно.
Замок Освальд, расположенный недалеко от Митавы, вверх по реке Аа, на левом берегу, на небольшом холме, был основан в 1347 году рыцарем Ливонского ордена Освальдом и сохранил всё своё прежнее величие, несмотря на пронёсшиеся над его стенами века. Народное движение, реформация и, наконец, распадение ордена прошли для него бесследно, и в начале XVIII столетия живший там бездетный старец граф Отто – последний Освальд – оставался верным католиком и ревниво охранял свой замок от всякого новшества. Граф никого не принимал и сам не выходил за черту своих окопов. Народ про него рассказывал басни; говорили, что он – алхимик и чародей, а в Митаве считали его просто выжившим из ума сумасбродным стариком, хотя и отзывались о нём с уважением.
Замок со своими высокими стенами, рвами, башнями и бойницами, с подъёмным, гремевшим цепями мостом, имел снаружи странный, таинственный вид и казался необитаемым. Только в утренний час обедни из-за этих стен раздавались мерные удары колокола.
Старый граф жил у себя, как хотел, никому не мешая, и не позволял, чтобы мешали ему. Он рабски придерживался дедовских обычаев, завещанных ему отцом, на которого был очень похож своими причудами и странностями.
В обыкновенное время ворота замка никогда не растворялись для случайного посетителя или гостя. Раз только в год, в престольный праздник замковой церкви, эти ворота были отворены для всех желающих, и тогда всякий, кто хотел, – и знатный, и простолюдин – мог идти в гости к старому графу. Для народа устраивалось угощение на дворе, а благородных гостей провожали в столовый зал к графу.
Таким образом, попасть туда Волконскому было очень легко и возможно.
– Да вставай, брат, вставай!.. Не то опоздаем, – будил давно умытый, причёсанный и почти одетый князь Никита лежавшего ещё в постели Черемзина.
– А-а-а, который час? – зевнул Черемзин.
– Скоро шесть…
Было ещё половина шестого утра, но Волконский нарочно сказал больше.
– Так рано ещё – успеем, – сонным голосом отозвался Черемзин и повернулся к стене.
– Ну что мне с тобой делать? – беспокоился Никита Фёдорович. – Где же мы успеем? Ты одеваться будешь полтора часа по меньшей мере… Да сам ты вчера говорил, что до Освальда час езды будет, значит, приедем туда в половине девятого, а нужно быть в восемь.
– Значит, приедем в половине девятого, – согласился Черемзин, садясь на постели, потягиваясь и мигая ещё слипавшимися от сна глазами. – Знаешь, князь, – вдруг сообразил он, – мы вот что сделаем – вовсе не поедем.
Волконский только рукой махнул.
– Ведь всё равно опоздали, – продолжал Черемзин.
– Да встанешь ли ты, может, и не опоздали.
– Да ведь её не будет…
– Кого её?
– Не знаешь? – и Черемзин лукаво прищурил правый глаз.
– Послушай, наконец… – начал уже рассердившийся князь Никита.
– Ты погоди злиться. Я тебе приятную новость могу сообщить.
– Ну? – спросил, не меняя тон, Волконский. – Да, верно, опять врёшь что-нибудь.
– Нет, не вру. Вчера я положительно узнал, что Бестужева отзывают отсюда.
– Ну, что ж из этого?
– Ну, значит, он будет в немилости, лишится своего положения, может быть, состояния. Герцогиня вот уже сколько времени не принимает его, словом, Бестужев накануне падения.
– Так что ж тут приятного?
– Для Петра Михайловича, конечно, ничего, но для тебя это очень хорошо.
– Да что ты, не проснулся, верно? Что ты за вздор говоришь?
– Нет, не вздор, голубчик. Ведь ты Аграфену Петровну любишь?
Волконский молчал.
– Любишь ты её или нет, я тебя спрашиваю?
– Ну, хорошо… дальше что?
– А если ты её любишь, то ни на богатство, ни на протекцию её отца внимания не обращаешь. Значит, то, что казалось невозможным или трудным, когда Бестужев был в силе, станет просто и даже очень достойно с твоей стороны, когда он впадёт в немилость…
– То есть?
– Да сватовство твоё к Аграфене Петровне! – отрезал вдруг Черемзин и, спустив ноги с кровати, быстро стал одеваться.
На этот раз он окончил свой туалет довольно поспешно и не было ещё половины седьмого, когда они выехали верхом, быстрою рысью, за город.
Слова Черемзина всю дорогу мучили Волконского. Он не мог не сознаться, что эти слова были счастливою и чудною истиной, но, несмотря на это, для него Аграфена Петровна всё-таки казалась так недосягаемо прекрасна, что то счастье, о котором говорил Черемзин, представлялось неземным, нездешним и потому для простого смертного невозможным.
– Фу! Я с ума сойду! – повторял он, схватываясь за голову.
Они подъехали к замку как раз вовремя, когда только что загудел церковный колокол, и ворота отворились.
Толпа народа, ожидавшая этой минуты, повалила в ворота, потому что с последним ударом колокола ворота снова затворялись и в продолжение всего дня, до вечера, нельзя было ни войти в замок, ни выйти из него.