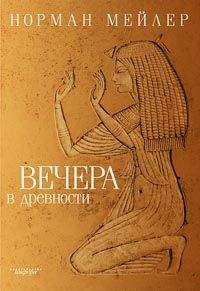Я улыбался каждому слову, произнесенному проклятым Пепти (на лице которого было написано самодовольство, присущее евнухам, видимо воображающим себя самим семенем Полей Тростника), но в душе я ощутил холодное отчаяние купца, оставленного нагим в лунном бвете после того, как его караван был ограблен.
Однако, поразмыслив, я не смог прийти к определенному мнению — приобретение это для меня или потеря. Возможно, теперь некоторые из Его лучших проклятий принадлежали ей. Я не знал, что, вернувшись, обнаружу Касторовое-Масло, евнуха Медового-Шарика, ожидавшего меня у моего дома, который протянул мне длинное красное перо, а затем молча удалился. Это было послание, о смысле которого мы договорились до того, как я покинул Сады. Оно говорило, что мне следует увидеть Медовый-Шарик как можно скорее и при любых обстоятельствах.
Теперь, за те дни, когда Он выздоравливал, жизнь Дворца разладилась. Во многом причиной тому были те, кто вынашивал самые честолюбивые планы относительно того, как действовать в случае Его смерти. Эти надежды рассыпались прахом после Его возвращения к жизни. А кто взялся бы измерить, насколько была нарушена жизнь Богов? Ведь стольких из них призывали жрецы и вельможи, молясь за определенного преемника. Я знал, что за те дни, пока Он выздоравливал, многое нарушилось. Службы в Храме отправлялись недолжным образом, а в денежных отчетах, представленных Его чиновниками, стали обнаруживать ошибки. В помещениях, прилегавших к Великому Залу, была ужасная толчея. Управляющие и писцы, даже Правители номов стремились представить отчеты, которые никто не читал, пока Он болел.
По большей части я не обращал внимания на все это. И проходил мимо Зала Приемов, не заглядывая внутрь него. Я находился рядом с Нефертари даже больше, чем раньше, и Она хотела, чтобы я был рядом. Поскольку мы не знали, что бы я сделал, если бы Усермаатра умер, мы уж точно не представляли себе, что будем делать теперь, когда Он остался жив. Не было дня, чтобы Она не вынимала зеркала и мы не смотрели друг на друга, рассматривая Ка в лице другого, и я узнал многих из Ее Четырнадцати, пусть и совсем немного. Облако не успевало коснуться края солнца, а легкий ветерок — колонн в Ее крытом внутреннем дворе, а Ее Ка уже уходил, и в зеркале возникал другой из Четырнадцати. Иногда Она разговаривала со мной только подобным образом — когда наши глаза соединяло зеркало, особенно в те утра, когда по Дворцам распространялась весть о том, что Он отправился навестить Маатхор-нефруру. Нефертари даже говорила тогда: „Он не придет ко Мне, пока Я не попрошу прощения за суп, пролитый Ему на грудь, но Я не сделаю этого. Ведь из-за Него моего слугу били, покуда этот несчастный не умер". Она горестно склонила голову под тяжестью
Своего оцепеневшего от горя сердца. „Дочь умершего слуги, — сказала Нефертари, — слепа, у нее был один из лучших голосов в Моем Хоре Слепых. С тех пор как убили ее отца, она не в состоянии подражать пению птички. — Нефертари посмотрела на меня. — В этом вина той женщины с выбеленными волосами".
Так говорила Она о Маатхорнефруре. Настолько велико было Ее отвращение к Маатхорнефруре, что Она употребила слово се-шер — отбеленные, которое означало у нас также навоз. Она вплетала это сешер в Свои слова и вытягивала его из них, покуда прекрасные волосы Маатхорнефруры не превращались в испражнения белого цвета, опустошенные, выбеленные солнцем внутренности, — мне не нравилась жестокость этого Ка в лице Нефертари, так как, единожды возникнув, он никак не желал покидать зеркало. „Хеттка ненавидит Усермаатра, — сказала моя Царица. — Он страдает от несчастья, о котором не знает Сам. Он слишком силен, чтобы знать о собственном несчастье. Да что там, Он не ударился бы так сильно, выпав из Своего Золотого Чрева, если бы Его чувства не были притуплены. Вот что случается от глупой любви с этой хеттской женщиной с отбеленными волосами".
Наконец Она сказала мне: „Я хотела бы, чтобы у Нее выпали все волосы. Нет такого дара, который бы Я тогда не предложила".
Сколько силы придали мне эти несколько слов! Боюсь, я почитал Ее как Богиню. Мне не верилось, как бы я ни старался поверить, что я останусь тверд, если Она когда-нибудь сделает меня своим избранником. Возможно, я и был Сыном Амона, однако у Него имелись и более великие Сыновья. Тем не менее Она повторила: „Нет такого дара, который бы Я не предложила", и Ее глаза так ясно обращались к семени и змеям в моем паху, что впервые я возжелал Ее всем духом болот. Во мне проснулся Бог Сет. Я желал обладать Ею между Ее бедер, там, в Ка-Исиды.
Затем Нефертари сказала: „Тебе надо повидаться с Медовым-Шариком".
Я не сказал Ей, как трудно это сделать. Вместо этого я поклонился и вышел из Ее покоя, а затем поклонился снова, так как приближался Аменхерхепишеф. Теперь мы уже не смотрели друг другу в глаза. Мы больше никогда этого не сделаем, если только не обнажим друг против друга мечи. Но Он пришел попрощаться со Своей Матерью, так что мы даже переговорили (причем каждый глядел на губы другого, как на крепость, которую предстоит взять осадой), и я узнал, что сегодня Он отправляется со Своими баржами вниз по реке на одну из Своих малых войн в Ливии: придется осадить еще один город — таковы были приказания Усермаатра. Я пожелал Ему удачи со всей вежливостью, на которую был способен, и подумал, что это добрый знак, что Он будет в отъезде.
После того как Он ушел, я стал бродить у Ворот Утра и Вечера, за которыми располагались Сады Уединенных, и сказал одному из двух евнухов, стоявших на часах, чтобы послали за Пепти. Вскоре мы уже беседовали через узкий проем в стене рядом с воротами.
„Со мной мир, — сказал я ему. — Надеюсь, и с тобой мир". „Со мной мир".
Он не смог продолжать. Он принялся смеяться, что для него было почти то же, что плакать. Я заметил, что многие евнухи, казалось, не чувствуют разницы между смехом и плачем — их жизнь так отличалась от нашей. „По правде говоря, — сказал он, — в Доме Уединенных нарушен покой", — и стал рассказывать мне о ссорах между маленькими царицами и грубости евнухов. Похоже, в некоторых домах беспорядок. Та ночь, что Усермаатра провел с Медовым-Шариком, смутила многих. Он вздохнул. „Я думаю, это все оттого, что поднимается река".
„Я пришел сказать тебе о более существенных изменениях заведенного порядка. Домочадцы будут перемещены, и Великие Царицы станут спать в новых постелях".
Он зарыдал от громадности грядущих перемен, то есть на его глазах были слезы, но я не знал, плачет он или смеется. „Скоро такие изменения не произойдут, — сказал он. Я посмотрел в его глаза, большие и навыкате, они выглядели так, как будто кто-то сжимал ему горло. — Единственный, — продолжал он, — любит бледное золото солнца. Находясь с Ней, Он держит солнце в Своей руке".
„Так было. Но со времени Его падения Он стал тяготиться этой хетткой".
Пепти пожал плечами. „Он сказал Маатхерут, чтобы та дала Ему приворотное зелье, которое бы заставило хеттку больше любить Его".
„Маатхерут говорит тебе больше, чем сказала бы мне". „Я — евнух".
Я кивнул. „Ты также мудр. Я сказал Царице Нефертари, что ты самый мудрый из всех, кого я знаю. Она ответила: «Нам нужен такой человек на должность нашего Визиря!»"
Он был польщен, но не поверил мне. Для этого он был слишком умен. „Ты не был там и не слышал тепло в голосе Царицы, когда Она говорила о тебе, — сказал я. — Знаешь ли ты, как Она ненавидит нынешнего Визиря?"
„Я слыхал об этом. — Он, действительно, был мудр, но в то же время он хотел мне верить. — Единственный, — спросил он, — хоть когда-нибудь прислушивается к словам Нефертари?"
„Вскоре будет".
Пепти посмотрел на меня как на дурака.
„Нет, — сказал я, — ты ошибаешься. Другие приходят и уходят. Рано или поздно Он всегда возвращался к Ней. И когда Он возвращается, Она никогда не забывает тех, кто оставался Ей предан. Будь предан Ей сейчас, и Она вознаградит тебя высшими дарами".
Он помрачнел. „Даже если все так, как ты сказал, Единственный никогда не согласится на то, чтобы евнух стал Его Визирем".
„Нет, — сказал я ему, — ты ошибаешься. Из всех людей Сесуси доверяет только евнухам. — Я произнес это с горечью, как будто сам мог бы стать Визирем, если бы не это препятствие. — Сесуси не доверяет мужчинам, — сказал я, — только евнухам".
Вот теперь Пепти мне поверил. Из-за жестокости моих слов. В жестокость он верил всегда.
„Ты, — сказал он, и теперь слезы потекли из его глаз, — хотел бы, чтобы я стал Визирем. Тогда ты сможешь управлять Двором через меня".
„Этого не случилось бы, — сказал я. — Я бы никогда не попытался сделать это".
Он улыбнулся, как будто моя ложь представлялась ему пустой болтовней. И все же он задумался о моих словах. Я знал его расчет. Если бы он стал Визирем, я обнаружил бы, что у него хватает воли, несмотря на отсутствие меча между его ног. „Друг мой, — сказал я, — пусть придет день, когда ты станешь Визирем. Тогда мы увидим — говорю ли я через тебя или ты — через меня".