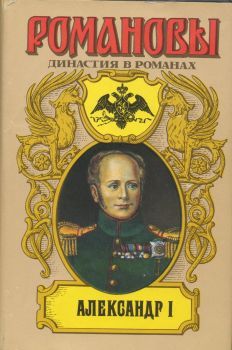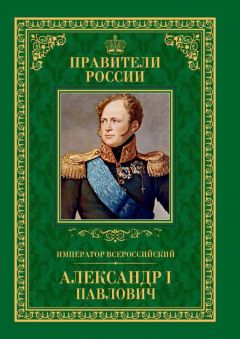«11 марта за 11 марта, кровь за кровь», – опять понял государь. Побледнел, хотел вскочить, закричать: «Вон, негодяй!» – но не было сил, только чувствовал, что холодеют и переворачиваются внутренности от подлого страха, как тогда, после аустерлицкого сражения, в пустой избе, на соломе, когда у него болел живот.
А глаза Шервуда блестели радостью: «Клюнуло! клюнуло!» Перестал пугать и как будто жалел, утешал:
– Зараза умов, возникшая от ничтожной части подданных вашего императорского величества, не есть чувство народа, непоколебимого в верности. Хотя и много времени упущено, но ежели взять меры скорые, то ещё можно спастись; только надобно, как баснописец Крылов говорит:
С волками иначе не делать мировой,
Как снявши шкуру с них долой, —
заключил почти с развязностью, и что-то было в лице его такое гнусное, что государю вдруг почудилось, что это – не человек, а призрак: не его ли собственный дьявол-двойник – воплощение того смешного-страшного, что в нём самом?
– Хорошо, ступай, жди приказаний от Клейнмихеля. Ступай же! – проговорил он через силу, встал и протянул руку, как будто желая оттолкнуть Шервуда; но тот быстро наклонился и поцеловал руку.
Оставшись один, государь открыл настежь окно и дверь на балкон: ему казалось, что в комнате дурно пахнет. Вышел в сад, но и здесь в тёплом тумане был тот же запах как бы ножного пота и с мокрых, точно потных, листьев капало. На пустынной аллее долго стоял он, прислонившись головой к дереву; чувствовал тошноту смертную; казалось, что от него самого дурно пахнет.
На следующий день перешёл из кабинета в другую комнату, в верхнем этаже, под предлогом, что сыро внизу, а на самом деле потому, что неприятно было слышать близкие шаги прохожих.
В тот же день увидел часовых там, где их раньше не было, и новую белую решётку в саду, которой запирался ход мимо дворца; должно быть, распорядился Дибич: государь никому ничего не приказывал.
Вспомнил анекдот об уединённых прогулках своих по улицам Дрездена: старушка-крестьянка, увидев его, сказала: «Вон русский царь идёт один и никого не боится, видно, у него чистая совесть!» А теперь – белая решётка…
Однажды ночью вбежал к нему дежурный офицер с испуганным видом:
– Беда, ваше величество!
– Что такое?
– Не моя вина, государь, видит Бог, не моя…
– Да что, что такое? Говори же!
– Апельсин… апельсин… – лепетал офицер, задыхаясь.
– Какой апельсин? Что с тобою?
– Апельсин, ваше величество, отданный в сдачу, свалился…
У дворца, на набережной, стояли апельсинные деревья в кадках; на них зрелые плоды, и часовой охранял их от кражи. Один упал от зрелости. Часовой объявил о том ефрейтору, ефрейтор – караульному, караульный – дежурному, а тот – государю.
– Пошёл вон, дурак! – закричал он в ярости; потом вернул его, спросил, как имя.
– Скарятин.
Скарятин был в числе убийц[264] 11 марта. Конечно, не тот. Но государь всё-таки велел никогда не назначать его в дежурные.
Переехал в Царское. Не потому ли, что там безопаснее? Об этом старался не думать. По-прежнему гулял в парке один, даже ночью, как будто доказывая себе, что ничего не боится.
В середине августа, ненастным вечером, шёл от каскадов к пирамиде, где погребены любимые собачки императрицы-бабушки: Том, Андерсон, Земира и Дюшесе.
Наступали ранние сумерки. По небу неслись низкие тучи; в воздухе пахло дождём, и тихо было тишиной предгрозною; только иногда верхушки деревьев от внезапного ветра качались, шумели уныло и глухо, уже по-осеннему, а потом умолкали сразу, как будто кончив разговор таинственный. Английская сучка государева Пэдди бежала впереди; вдруг остановилась и зарычала. У подножия пирамиды кто-то лежал ничком в траве; лица не видать, как будто прятался. Государь тоже остановился и вдруг почувствовал, что сердце его тяжело заколотилось, в висках закололо и по телу мурашки забегали: ему казалось, что тот, в траве, тихонько шевелится, приподымается и что-то держит в руке. Пэдди залаяла. Лежавший вскочил. Государь бросился к нему.
– Что ты делаешь? – крикнул голосом, который ему самому показался гадким, подлым от страха, и протянул руку, чтобы схватить убийцу.
– Виноват, ваше величество, – послышался знакомый голос.
– Это ты, Дмитрий Клементьич? Как ты…
Не кончил, – хотел сказать: «Как ты меня напутал!»
– Как ты здесь очутился? Что ты тут делаешь?
– Земиры собачки эпитафию списываю, – ответил лейб-хирург Дмитрий Клементьевнч Тарасов.
Не нож убийцы, а перочинный ножик, который чинил карандаш, держал он в руке и с могильной плиты собачки Земиры списывал французские стихи графа Сегюра:[265]
«Здесь лежит Земира, и опечаленные Грации должны набросать цветов на её могильный памятник. Да наградят её боги бессмертием за верную службу».
– А знаешь, Тарасов, мне показалось, что это кто-нибудь из офицеров подгулявших расположился отдохнуть, – усмехнулся государь и почувствовал, что краснеет. – Ну, пиши с Богом. Только не темно ли?
– Ничего, ваше величество, у меня глаза хорошие.
Государь, свистнув Пэдди, пошёл. А Тарасов долго смотрел ему вслед с удивлением.
И государь удивлялся. Никогда не был трусом. В битве под Лейпцигом, когда пролетело ядро над головой его, сказал с улыбкою: «Смотрите, сейчас пролетит другое!» В той же битве, когда все считали дело проигранным и Наполеон говорил: «Мир снова вертится для нас!» – он, Александр, «Агамемнон сей великой брани», не потерял присутствия духа.
Что же с ним теперь? «С ума я схожу, что ли?» – думал с тихим ужасом.
В Павловском дворце, рядом со спальнею императрицы-матери, была запертая комната. Никто никогда не входил в неё, кроме самой императрицы да камер-фурьера Сергея Ивановича Крылова. Крылов был старичок дряхлый, из ума выживший, в красном мальтийском мундире времён Павловых, с такими неподвижными глазами, что казалось, если заглянуть в зрачки, можно увидеть то, что отразилось в них, как в зрачках мертвеца, в минуту предсмертную. Встречая государя, он кланялся издали и тотчас уходил, как будто убегал.
Маленький Саша, сын великого князя Николая Павловича, семилетний мальчик, с немного бледным хорошеньким личиком, проходил всегда с любопытством мимо запертой двери: она казалась ему такой же таинственной, как та страшная дверь в замке Синей Бороды, о которой он читал в сказках. Заглянуть бы хоть в щёлку, увидеть, что там такое. Однажды приснилось ему, что он вошёл туда и увидел что-то ужасное; проснулся с криком, но не мог вспомнить, что это было.
В конце августа, за несколько дней до отъезда в Таганрог, государь приехал в Павловск к императрице-матери и, не застав её, прошёл в кабинет, где никого не было, кроме Саши и старушки статс-дамы, княгини Ливен.[266] У окна, за круглым столом, играли они в солдатики. Государь присел и тоже начал играть; так метко стрелял горохом из пушечек, что Саша кричал и хлопал в ладоши от радости.
В открытую дверь виднелась анфилада комнат. Вдруг, в последней из них, в спальне императрицы, мелькнул красный мальтийский мундир. Камер-фурьер Сергей Иванович Крылов стоял у запертой двери. Государь увидел его и быстро пошёл к нему.
В соседней комнате послышался голос императрицы-матери. Княгиня Ливен пошла к ней навстречу. Саша, оставшись один, поднял глаза и, забыв о солдатиках, с жадным любопытством следил за тем, что происходит у запертой двери.
Крылов, увидев государя, поклонился ему издали и хотел, как всегда, убежать. Но тот окликнул его и, подойдя, сказал:
– Дай ключ.
Старик уставился на него, как будто не расслышал, и забормотал что-то; можно было только понять:
– Её величество… приказать изволили…
– Ну давай же, давай скорее, тебе говорят! – прикрикнул на него государь и положил ему руку на плечо.
Старик затрясся, и зрачки его расширились, как зрачки мертвеца, видящие то, чего уже никто не видит; хотел подать ключ, но руки так тряслись, что уронил. Государь поднял, отпер и вошёл.
Пахнуло спёртым воздухом, запахом старых вещей: вещи покойного императора Павла I из его кабинета-спальни хранились в этой комнате. Государь увидел знакомые стулья, кресла, канапе красного дерева, с бронзовыми львиными головками; знакомые картины – архангел Гавриил и Богоматерь Гвидо Рени, висевшие над изголовьем постели; бюро, секретеры, письменный стол с чернильницей, перьями, как будто только что писавшими, с бумагами и письмами, – узнал почерк отца; ночной столик с нагоревшею, как будто только что потушенною свечкою; стенные часы со стрелкой, остановленной на половине первого, и полинялые шёлковые с китайскими фигурами спальные ширмочки.
Долго стоял, как будто в нерешимости; потом сделал слабый, падающий шаг вперёд и заглянул за ширмочки: там узкая походная кровать. Государь побледнел, и зрачки его расширились, как зрачки мертвеца, видящие то, чего уже никто не видит; вдруг наклонился и как будто с шаловливой улыбкой поднял одеяло. На простыне тёмные пятна – старые пятна крови.