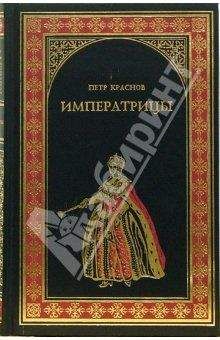Она закашлялась тяжёлым сухим кашлем, слёзы показались в её глазах, и сквозь них она сказала:
– Поймите меня… Брак с князем Лимбургским мне кажется единственным исходом. Тут всё – и титул и богатство. Филипп–Фердинанд, владеющий князь Лимбургский и Стирумский, совладелец графства Оберштейн… Звучит–то как!
– Старик…
– Ему всего сорок два года. Он очень образован.
– Но глуп.
– Умной жене – глупый муж не помеха. Он потомок графов Шауенбургских и притязает на герцогства Шлезвиг и Голштейн… Он близок русскому двору. У него, подумайте, Доманский, своё войско… Своё войско!. Оранжевый прибор с серебром!.. Красиво!.. Он раздаёт ордена… Помогите мне, Доманский. Вы знаете, что я вас люблю и любить не перестану…
– Чем, чем могу я вам помочь в этом деле?
– Всё готово… Всё оговорено. Граф Рошфор мне сказал, что князь согласен венчаться на мне, но он требует бумаги. Свидетельство о моём рождении. Он хочет по ним точно знать, кто я.
– За чем же дело стало?
– У меня нет никаких бумаг… И понимаете, что хуже всего, – я сама не знаю, кто я?
– Я вас не понимаю, princesse.
Тихо звенела арфа, она рассказывала какую–то восточную сказку. Невнятен был этот рассказ. Молящие, растерянные, косящие глаза смотрели мимо Доманского, в темнеющий угол гостиной.
– Вы… персидская княжна…
– Я этого не знаю.
– Но… Вы носите такой красивый и сложный титул.
– Я сама его придумала. Надо же было мне как–нибудь называться? И собака кличку имеет.
Опять лились аккорды. Звенела арфа. Лакей пришёл зажечь свечи. Принцесса Володимирская махнула ему, чтобы он уходил.
Густели сумерки осеннего вечера, в глубокую прозрачную синеву окно погрузилось.
– Что я о себе знаю?.. Да почти ничего. Вся жизнь моя – как какая–то легенда, сказка, да, может быть, и то, что я о себе знаю, я сама и придумала и ничего из того, что я о себе думаю, никогда и не было. Моя память начинается с Киля. Знаю точно – крещена по греко–восточному обряду – по крайней мере, я и теперь, когда хожу в костёл и крещусь – крещусь по–гречески. Меня воспитывала какая–то госпожа… Госпожа Пере… Никто никогда не говорил мне, кто я, кто мои родители. Потом вдруг меня увезли из Киля… Может быть, похитили… Чёрные маски… Я очень тогда была этому довольна. У меня болела голова, и было всё, как в горячке, в бреду. Как будто – Петербург. Смутное воспоминание. Широкая река, много воды. Москва. Как будто мы скрывались от кого–то Помню ещё Волгу. Каспийское море. Говорили про Азов. Что лучше было куда–то свернуть и ехать в Азов. Слово мне очень запомнилось. А затем был удивительный, как рай, Восток.
Принцесса Володимирская стала играть восточный, всё повторяющийся оригинальный, певучий напев.
– Вот это очень запомнилось. Точно сейчас слышу. Плоская крыша, лунная ночь и женщина с закрытым лицом играет на инструменте вроде арфы. При мне старуха, которая меня учила по–французски. Она мне сказала, что мы из Персии и что нас туда послали по повелению русского Императора Петра III… И вдруг мы опять бежим. Теперь уже я помню – мы жили в Багдаде. Нам помогал персиянин Гамет. У нас – совсем как сказка Шахразады – Аладдинов дворец. Зеркала, мрамор, розы. Ужасно как много роз. Крупные розовые, красные, оранжевые, жёлтые, белые… И фонтан! И вот – бежать. Мы поехали в Испаган. При мне учитель–француз – Жан Фурнье, и я совсем взрослая барышня. Я учу Корнеля, Расина, Мольера, я читаю Вольтера Я – une demoiselle![109] Вероятно, всё–таки я хорошего рода. Обо мне так заботились. В 1769 году в Персии были беспорядки, и молодой перс Гали – он очень меня любил, совсем как вы, Доманский, друг Гамета, – увёз меня из Персии в Астрахань. Скверный город. Жара, пыль, пахнет рыбой и гнилью. Там почему–то Гали назвался Крымовым, выдавал меня за свою дочь. Мы купили русских слуг и поехали в Петербург. Что там случилось, я не знаю, но в Петербурге мы провели только одну ночь и уехали в Кенигсберг. Русские слуги были оставлены и заменены немцами. Мы больше года прожили в Берлине, потом в Лондоне. Гали должен был вернуться в Персию. Он оставил мне много денег, и я стала по его имени называться Али. Я одна, совсем молодая, в Лондоне. Много денег, и я живу вовсю. Наряды, лошади, безумие… Деньги скоро вышли, вот тогда и появился банкир Вантурс… Он очень увлёкся мною, но как ни молода я была, я уже имела жизненный опыт, и я поняла, что называться Али слишком скромно и бедно, вот я сама и придумала себе этот пышный титул. Али–Эмете, принцесса Володимирская, дама из Азова! Очень мне всё это казалось красиво. Вот и всё. Дальше – вы знаете. Но никаких документов, никаких бумаг – словом, ничего у меня нет, я, как собака, не имеющая хозяина, я даже имени своего настоящего не знаю и должна откликаться на каждую кличку. И вот всё то, что я вам рассказала сегодня, завтра я вам совсем по–иному расскажу, потому что я совсем не уверена, что это так и было… Но всё–таки?.. Кто–то учил меня и по–французски, и по–немецки, и по–итальянски, кто–то научил меня играть на арфе, да, наконец, ведь жила же я все эти с лишком двадцать лет!.. Какой мой родной язык?.. Не знаю… Если я крещена по–русски, вероятно – русский, но я на нём не знаю и пары слов. Как же мне с таким бредом в голове выходить замуж за князя Лимбургского, который хочет совершенно точно знать, кто я, и видеть мои документы о рождении, а я не знаю, ни где я родилась, ни где я крещена? Помогите мне, Доманский. Надо не только придумать рассказ о своей жизни, но создать для этой жизни и бумаги.
Когда принцесса Володимирская рассказывала всё это, она сопровождала рассказ игрою на арфе. Теперь арфа смолкла. В зале – тихо. Было уже темно. В окно были видны редкие огни фонарей на противоположном берегу Сены.
Доманский встал, неслышно шагая по ковру, отыскал огниво, высек огня и зажёг канделябр. Медленно уплыли, точно растаяли, огни парижских фонарей.
– Princesse, вам надо ехать к князю, в Стирум, в его замок.
– Князь сейчас в Кобленце… Зачем я к нему поеду?
– Поезжайте в Кобленц. Держите князя под своим влиянием и обаянием. Я думаю, что хорошо было бы, если бы вы приняли католичество… Попробуем заинтересовать в вашей судьбе иезуитов и папу…
– Папу?.. Вы думаете?..
– Кроме того, я поговорю с гетманом Огинским и княгиней Радзивилл. Если у вас нет бумаг – их надо вам создать. В связи с политической обстановкой нужно будет что–нибудь придумать.
– Боюсь, Доманский. Я ничего не хочу, только красиво и хорошо жить… Для этого – денег… Я устала, милый мальчик… Опять ехать… Так хочется покоя.
– В княжестве Стирум вы отдохнёте.
– Когда–то, когда князь Лимбургский верил каждому моему слову, он обещал дать мне в пожизненное пользование Оберштейнское графство. Я сознаю – вы правы. Надо опять куда–то ехать… Прислуге три месяца не плочено. Я завалена счетами… Мне надо денег… денег… денег!..
Принцесса Володимирская тяжело закашлялась, легла на кушетку и зарылась лицом в подушки. Она казалась Доманскому жалкой и обречённой на несчастия.
XXIX
Камынин был счастлив своей удаче. Чуть не первый день в Париже, и он уже видел гетмана литовского. Камынин строил планы, как ему войти в доверие к княжне Володимирской, как возможно чаще бывать там и проникнуть к самому Огинскому. Но человек предполагает – Бог располагает. Так часто было в его судьбе – его мотали по всей Европе с поручениями, не давали сделать одно, как поручали другое.
Кирилл Григорьевич Разумовский, бывший в это время в Париже, вызвал его к себе. Камынин должен был ехать в Данию покупать жеребцов соловой масти для Троицкого конного завода Разумовского. Камынин только заикнулся о том, что он имеет из Петербурга поручение отыскать гетмана литовского и следить за ним и что он уже нашёл его, как Разумовский сердито перебил его:
– Ось подывиться!.. С князем Иваном Сергеевичем, посланником нашим, и конфедератами уладим. Конфедераты подождут… В Петербурге о том мало подумали, что князю–то, может быть, обидно, что по этому делу тебя из Петербурга прислали, точно ему не доверяют. Это к твоей же пользе, что я тебя за жеребцами посылаю. Да не торопись оттуда. Купишь жеребцов, наладишь их отправку, присмотри мне там в датской земле порцелин японский[110] либо китайский. Сказывали мне, что по причине датского торгу с Ост–Индией в немалом количестве туда оный фарфар вывозят и продают недорогой ценой.
Камынин знал – с такими вельможами, как Разумовский, не спорят; «скачи враже, як пан каже»… Поехал он в Данию и только окончил всё поручение и по лошадиной и по фарфоровой части, как получил приказание ехать в Швецию за поваренной железной посудой.
Камынин вздохнул, почесал под париком в затылке и поехал в Швецию. Так по делам казённым и частным пропутешествовал он более года и только летом 1774 года вернулся в Париж.