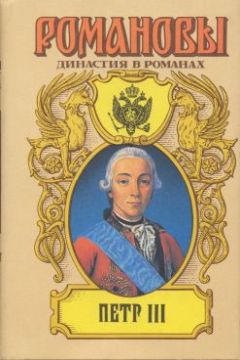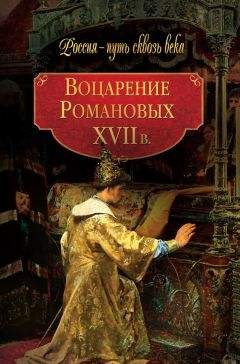Очнулся я от толчков в темноте и не сразу сообразил, что еду в карете. Кто-то сидел напротив меня, хрипло, по-старчески дыша, и я посчитал, что лучше всего мне обнаружиться самому, сыграв роль пианого. Выждав, пока мы отъехали изрядно от масонского дома, я с беспечностию спросил так, как если бы губы плохо повиновались мне:
– Человек, отчего мы едем столь скверной дорогою?
– Кто здесь? – воскликнул перепугавшийся хозяин кареты.
– Не беспокойтесь, сударь, – непринуждённо отвечал я. – Кто бы вы ни были, верный брат отвезёт вас в ваш дом.
– Извольте назвать себя, – потребовал хозяин кареты, несколько успокоясь.
– Орион, сударь, – сказал я. – Таково моё небесное имя.
– Друг мой, вы, вероятно, слишком усердно прислуживали Бахусу и потому сели не в свою карету! Куда прикажете вас доставить?
– Какая досада! – вскричал я. – Однако, сударь, сие творит со мною судьба отнюдь не впервые, и мой слуга догадается вернуться домой!
Я назвал адрес и был благополучно доставлен почти к самому крыльцу дома, в коем квартировал.
Раздевшись, я лёг спать, но тут какие-то люди принялись стучать в дверь – было то уже перед самым рассветом. «Барин дома?» – спросили они слугу, открывшему на стук. «Дома, – ответил подученный мною слуга. – Изволит почивать и велел до просыпу не беспокоить!»
В тяжёлом забытьи я пролежал в постеле до обеда. День был свободен от службы, и я не торопился. Как было оценить всё пережитое мною, я не знал.
В обед я получил записку от господина Хольберга с просьбой немедля навестить его. Разумеется, меня ожидала карета.
– Каков сукин сын! – вскричал, радостно смеясь и потирая руки, камергер, едва завидев меня. – Каков сукин сын!
– Чем я заслужил столь высокую от вас похвалу? – с поклоном сухо спросил я.
– Ещё и прикидывается! – хохотал камергер. – Знаешь ли ты, что тебе удалось избежать очень, очень больших неприятностей? Говорю сие без обиняков, понеже ведаю твой строптивый характер!..
Мы сели за стол, и тут я узнал, что в продолжение двух последних месяцев моею Лизой будто бы интересовался… сам государь. Я тотчас же раскусил ложь такового утверждения, сообразив, что оно придумано отнюдь не напрасно.
– Странное, брат, дело, – говорил камергер, выпивая сырые яйца, как делал то обыкновенно после попойки. – Надзиратель «садов Семирамиды» хотел, чтобы ты сам доставил Лизу в оранжерею любви. «Тот не масон, кто не готов поступиться и матерью своей ради прибылей Ордена!» – вот как он выразился в рассуждении тебя, мой друг. Спорить бесполезно – его должность гораздо превосходит мою, хотя, как ты помнишь, я вмешивался в твою пользу и рекомендовал тебя как ценнейшее приобретение для Ордена… И как тебе удалось улизнуть в самый роковой момент? Теперь государь утешен, но и тебе сыскалось иное применение!
Камергер заметал следы. Сопоставляя обстоятельства моего визита в капитул, я твёрдо выводил, что он беспокоился обо мне не более прочих.
– Но откуда государю известно о Лизе? – с притворным гневом спросил я, не сомневаясь, что не получу вразумительного ответа.
– Советую никогда более на задаваться сим вопросом!
– Желая влиять на государя, вы никого не принимаете в расчёт!
– Есть дела, где человек, кто бы он ни был, ничего не значит… Государь же слабоволен и, когда пиан, падок на увеселения, имея многих приятельниц в чужих жёнах!..
Государь, без сомнения, был обскочен со всех сторон, ровно волк. Негодяи толкали его в бездну порока, приучая спустя рукава смотреть на свои обязанности. Тем более нелепыми представали невозможные на государя поклёпы, ибо отнюдь не женщины были его страстью, а экзерцирования войск и общие рассуждения о будущем устройстве государства.
Желая потрафить камергеру, я возмутился:
– Отольются кошке мышкины слёзки!
– И точно отольются, – подхватил камергер. – Всенародное терпение истощается, и начался уже ропот противу бездарных распоряжений несчастного императора!
«Эге, – смекнул я тотчас, – каков ты ни есть калёный орешек, а всё же и тебя отмыкает острый зубок!»
Только слепец мог не приметить внезапного нарастания неприязни противу государя. Вот был вроде хорош и повсюду хвалим, и вдруг в одночасье сделался неугоден. Конечно, причины возмущения выставлялись куда как немаловажные: и нелицеприятные суждения о России, тотчас делавшиеся всем известными, и небрежение к православной церкви, и позорный мир с Фридрихом, и бесплатная отдача ему Пруссии, и обременительные перемены в армии, и многое ещё прочее. Но подлинная подоплёка как на дрожжах поднимавшегося комплота была иная, и мне хотелось услыхать о ней из уст господина Хольберга. Оборкавшись[98] в метафизике масона и в двойной его бухгалтерии, я проницал и ложь его, так что любой ответ давал повод для верного заключения.
– Но мы же ещё вчера рьяно подпирали императора! – возразил я с недоумением. – Он отменно жаловал тех, кто ныне ропщет. Отчего бы? И я тоже отягощён службою при нём и тоже негодую, но ужели невозможно было узреть вчера то, что зримо уже всеми сегодня?
– Не тревожься, брат мой, – отвечал с тонкою улыбкой камергер. – Всё было учтено, всё было расчислено, и всё предусмотрено. Не в обычаях Ордена рисковать. С того дня как государь, ещё будучи наследником, рассорился с женою, мы пасём порознь душу того и другого. Не оставлен без внимания и их единственный отпрыск. Нынешний государь осуществил все посильные предначертания и свершить более того уже не может. Он превращается в обузу делу просвещения, понеже, обуянный гордыней и капризом, стал чаще полагаться на самого себя, нежели на лучших советников… Россия лежит в развалинах, но сие не всякому приметно. Особенность России такова, что она может стоять и мёртвая. Взгляни на нравы и предрассудки, взаимная неприязнь, лихоимство, погоня за деньгами и властью, кругом обман, лень, унижение человека. Никаких прошпектив, ибо в России так: если их нет подлинно у государя, не сыщешь и у подданных… С большим пожаром Пётр Фёдорович не совладает, а большой пожар выжжет дотла и то, что построено нами. Русским неведома середина – они ещё дикое племя…
Господин Хольберг пытался вызвать у меня отвращение к моей земле, но тем ещё более будил горькую любовь к ней, вставшей на колени перед мучителями. Слушая камергера, я всё настойчивее спрашивал себя: кто же виноват в жалком положении государства? И казалось мне изрядно любопытным, что ненавистник России преобразился в усердного заступника её.
– Повсюду проволочки, нерасторопность, нераспорядительность, волокита, пустая болтовня, повсюду раболепие и гробовое молчание! Этого русские не умеют, того сделать не способны… Ты не ведаешь, брат мой, что при недавнем спуске кораблей защемили по оплошности более дюжины мастеровых и работных людей. Одних возможно было ещё спасти, да никто не пожелал, чтобы о бестолковых командах и ещё более бестолковых исполнителях узнал государь, и всех несчастных утопили, поскорее покрыв парусною холстиной то место, где они барахтались, силясь выплыть…
– Наверно, государь уже бесполезен для отечества, – сказал я. – Кто же ещё более виноват, коли не самодержец, не признающий державного ума ни в ком, опричь себя?
– Истинно так! – вскричал камергер, поднявшись из-за стола в показном возбуждении. – И не только бесполезен, но и зело опасен, понеже не таков он дурень, чтобы вовсе не примечать зреющего заговора! К тому же его окружают ещё так называемые верные слуги. Русский раб отвратительнее всех прочих: он спешит унизиться, дабы не быть униженным.
– Как же вы говорите о заговоре, – прервал я камергера, – коли кругом, по вашему слову, сплошь раболепие и молчание? Как народ восстанет противу царя? Неможное дело!
– Неможное, батенька, – подтвердил камергер – Но ещё более неможное дело – позволить зашевелиться русским холопам! Уж коли они возьмутся за вилы, то положат их не прежде, нежели падут пронзёнными штыками усмирительных команд. Или ты понятия об том не изволишь иметь?.. Мы должны возглавить возмущение, не доводя до крайностей и не вовлекая в события многих участников! Возглавить и повести по угодному Вседержителю руслу!
Всё становилось на свои места. Удивляться было нечему.
– Я слыхал, что иные грезят поставить на трон Екатерину, почти отринутую жену государя. Но она чистопородная немка, и сие будет бельмом в глазу для российских бояр. Более вероятно хотеть на трон Павла Петровича, царского сына, в нём хоть малая доля русской крови.
Господин Хольберг искренне расхохотался.
– Забавно, забавно! Касательно большой политики ты сущий ещё младенец. Но я займусь твоим просвещением всерьёз, едва ты дашь слово выполнить важнейшее поручение Ордена.
– Странная преамбула! Разве, вступая в капитул, я не обещал повиноваться?
– Разумеется, мой друг, – сказал камергер, пытливо заглядывая мне в глаза. – Однако сия комиссия чрезвычайна.