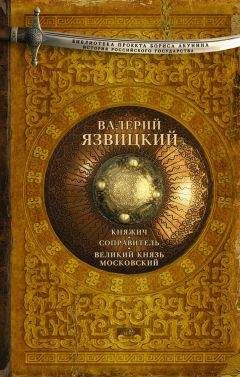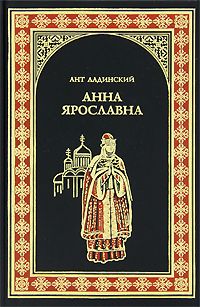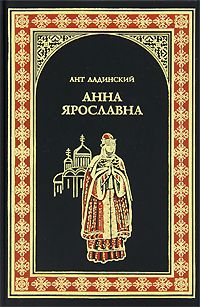Ознакомительная версия.
На другой день, как с прискорбием объявил Великий диван,[194] эмир Али-ата внезапно захворал и после утренней молитвы скончался от внутренних колик.
Прошла уже неделя, как конники ордынских эмиров, полки за полками, непрерывно тянулись к Сараю и разбивали свои становища в степях к северу и северо-западу от столицы. Ахмат, окруженный десятью тысячами своих конников, проводил последнюю ночь под стенами родного города в роскошной кибитке. Хан уж был как бы в походе и с рассветом уходил от Сарая.
После четвертой молитвы иша он вошел к себе в кибитку, но тотчас же вышел оттуда в простом желто-сером верблюжьем плаще и, сопровождаемый двумя телохранителями, незаметно двинулся вдоль крепостной стены в тьму наступившей ночи. Сердце его билось радостью, и, словно на крыльях, летел он к своей Адикэ. Кругом казалось все пусто и безлюдно среди мрака, но хан привычно чувствовал, что повсюду таится охрана из его верных воинов.
Вот и кибитка Адикэ – в ней повезет он свое счастье по всем дорогам войны, и никто и ничто не помешает ему пить сладость жизни. Дрожащей, нетерпеливой рукой отодвинул хан кошму над резной деревянной дверкой и сразу застыл и оцепенел: в кибитке было темно и необычно тихо…
– Факелы сюда! – крикнул хан. – Факелы!..
Мигом запылали факелы, и Ахмат увидел лежащих неподвижно Адикэ и ее служанку, Между ними на столике стояло блюдо с недоеденной баклавой.
Хан пошатнулся, у него потемнело в глазах, но тотчас же бешеный гнев охватил его.
– Кто принес им это блюдо? – спросил он.
– Абд[195] из дворца, – дрожащим голосом ответил юный воин, – он был с блюдом…
– Ты пропустил его?
– Да, повелитель…
Яростно вырвав из ножен саблю, хан убил воина. Потом, обернувшись с искаженным от гнева лицом к начальнику стражи, воскликнул:
– Ищи убийц, ищи! Не найдешь – переломлю хребет тебе! Ищи – ат аунаган жирдэ тэкк, алыр![196]
– Слушаю и повинуюсь, – с трудом выговорил бледный и дрожащий начальник караула.
Ахмат вдруг затих: взглянув на блюдо, он вспомнил, что где-то видел его. И гнев его перешел в жажду мести.
– Позови кизлар-агази, – сказал он, вытирая о кошму кибитки окровавленную саблю. – Возьми это блюдо и так, как есть, принеси в мою кибитку.
У себя хан опустился на ковры и лег ниц, зарывши лицо в пуховые подушки. Сердце его болело, и слезы вдруг потекли по его щекам на шелковые наволочки…
Легкий шорох заставил Ахмата оглянуться. Тотчас же старший евнух, черный Рахмет, простерся перед ханом.
– Живи сто лет, светлейший мой повелитель…
Хан вскочил на ноги.
– Рахмет, чье это блюдо?
Евнух поглядел на блюдо.
– Госпожи моей Хадичэ.
Ахмат вздрогнул и побледнел. Он не мог ничего сказать. Язык его не слушался. Молча достал он из-за пояса кошелек с деньгами и протянул его евнуху.
– Возьми тело моей Адикэ, отравленной этим ядом, – сказал он, указывая на блюдо, – позови ее родителей и похорони ее вместе со служанкой. – Ахмат побледнел еще больше и, помолчав, добавил: – Я тоже мог отравиться из этого блюда. – Хан опять помолчал и молвил: – Так вот: брось Хадичэ в Ак-Тюбэ, завязавши в мешок. Сына отдай старшей жене Гюльчахрэ. За его жизнь и здоровье она головой отвечает. Скажи обо всем улему хазрэт Абайдулле…
В лето тысяча четыреста шестьдесят пятое, сентября в тринадцатый день, оставил митрополит Феодосий митрополию свою. Принудить захотел попов и дьяков «идти путем Божиим», и начал он их на всякую неделю созывать и учить, как надобно жить праведно. Овдовевшим попам и дьякам повелел он постригаться в монахи, а тех из них, у которых будут наложницы, наказывать без милости: снимая звание священства, расстригать и продавать в рабство.
Попы же и дьяконы того времени в большинстве своем мыслили только о пьянстве и блуде, были малограмотные бездельники. Но и этих пьяниц бездельных не хватало, ибо весьма много церквей на Руси поставлено было.
После же расстрижения многих попов и дьяконов немало осталось церквей совсем без службы, и затужили люди и начали проклинать и ругать митрополита Феодосия.
– Лишил нас владыка, – вопияли кругом, – Закону Божьего! Нельзя ныне нам ни свадьбы справлять, ни младенцев крестить, ни мертвецов погребать. Прибрал бы Господь от нас митрополита такого…
Начались среди сирот смуты и волнения. Сведав об этом, великий князь Иван поехал сам к митрополиту, взяв с собой только дьяка Курицына. Хотел государь иметь с владыкой беседу сугубо тайную. Сидя в колымаге, на пути к митрополиту, он долго молчал, но потом, обратясь к любимому дьяку, молвил:
– Помнишь, в самом начале чуял яз, Федор Василич, сие. Скинуть владыку придется. Не разумеет ничего он, опричь канона церковного.
– Помню, государь, – живо отозвался Курицын, – прав ты был. Дивлюсь яз прозорливости твоей. Сам же токмо ныне, когда смуты начались, узрил воочию правоту твою. Попы-то уж о Филиппе, владыке суздальском, бают.
– Сей, мыслю, – медленно продолжал Иван, – не по-церковному править будет, а как наместник мой и воевода. Первее всего государству служить будет.
Когда великий князь подъехал к крыльцу митрополичьих палат, владыка Феодосий успел выйти ему навстречу. Он был ласков, но печален и задумчив.
Благословив государя и пригласив к столу, владыка сам начал речь о делах и смутах церковных.
– Государь, – сказал он, – в тяжких грехах Русь наша, церковь же в сетях соблазна.
– А среди сирот смуты и волнения, – сурово сказал Иван.
– Ведаю, государь! – воскликнул Феодосий. – Невежество губит церковь нашу. Призову вот яз, грешный, попа сельского, дам ему Евангелие читать, а он, деревенщина, этого не может вовсе, а токмо через пятое-десятое на память знает без всякого разумения! И все почти такие в невежестве, а пьянством и блудом все одинаковы. Как же таких не расстригать?! Христос-то бичом гнал из храма менял и торгашей, а сии боле еще скверны.
Митрополит горько поник головой и замолчал. Иван Васильевич тоже долго молчал, но вдруг заговорил тихо, с теплотой душевной:
– Отче святой, верю яз тобе. Добро ты хотел содеять, а содеял зло и христианам и государству. Христиан оставил без церквей, все едино что отлучил их, предав анафеме. От смут же – ущерб государству. Ты бы, отче, ране хороших попов и дьяконов подобрал, а потом бы мало-помалу ими худых заменял.
Феодосий обернул к великому князю изумленное лицо и, вдруг зарыдав, воскликнул горестно:
– Истинно, государь, истинно! Лишил аз по неразумию паству свою благодати Божией. Казня злых пастырей, христиан отлучил от службы церковной!.. Спиду аз в келию к Михайлову Чуду в монастырь! И, приняв старца болящего, буду служити ем и омывати струны его, ибо недостоин святительства.
Сентябрь со старым бабьим летом пришел незаметно, будто продолжение последних дней августа, прохладных, но светозарных. Тишина кругом осенняя.
Во дворцовых садах звенят синицы, летают по Москве серебряные паутинки.
Невысокое уж солнце светит золотисто-янтарным светом, а в древесной листве видать кое-где золото и пурпур.
Иван Васильевич любит это время и, когда есть свободный часок, проводит его перед завтраком или обедом на гульбищах своих хором со всем семейством, сидя на скамьях возле башенки-смотрильни.
Сегодня же, сентября второго, день особенно светлый и радостный. На гульбищах даже чуть пригревает от осеннего солнышка. Ванюшенька, уже семилетний мальчик, играет на полу, строя из чурочек крепость и расставляя вокруг нее деревянных конников. Марьюшка сидит рядом с Иваном Васильевичем, положив голову ему на плечо, и, ни о чем не думая, глядит на расстилающийся внизу город неподвижными, широко открытыми глазами и, слегка улыбнувшись, произносит лениво:
– Гляди, Иванушка, скворцов-то сколь в саду у Ряполовских. Вон какой тучей поднялись. Вспугнули, верно. Хорошо, что в садах все ягоды давным-давно сняты.
Вдруг внизу заскрипели ступени лестницы – кто-то быстро взбегал к гульбищам. Взглянув на запыхавшегося Курицына, государь взволновался, руки его похолодели. Он, зная хорошо своего дьяка, понимал, что в эти часы Федор Васильевич не будет зря беспокоить своего государя.
– Что? – спросил он кратко, предупредительно указав глазами на свою княгиню.
Курицын понял и ответил спокойно и ровно:
– Вестники прибыли, государь, с Дикого Поля, и беглец русский с ними из Орды бежал. Хочешь ли сам его видеть?
– Где они? – спросил князь Иван.
– В сенцах ждут, возле покоев твоих, с начальником стражи.
– Добре, – продолжал государь и, обратясь к княгине, ласково молвил: – Яз те, Марьюшка, расскажу потом про Орду-то.
На лестнице внизу Иван Васильевич тронул Курицына за плечо, спросил опять так же кратко:
Ознакомительная версия.