— Где перестройка? — спрашивал делегат В. Ярин. — Магазины по-прежнему пусты.
— Мы молчали о том, что по уровню детской смертности находились на пятидесятом месте в мире, — признавался министр здравоохранения Е. Чазов, уже давно знавший о том, что детская смертность в стране растет.
— Нам столько раз доводилось ликовать или делать вид, что мы ликуем, когда дела шли плохо. А когда начинали идти лучше, — ликовать еще больше, боясь даже самим себе задать вопрос: какой высокой ценой оплачен тот или другой успех? — вспоминал о еще не забытом прошлом один из активных организаторов „всеобщего ликования” директор института США и Канады Г. Арбатов.
— За минувшие семнадцать лет план по розничному обороту не выполнялся ни разу, — с тревогой отмечал академик Абалкин. — Отставание от мирового уровня нарастает и принимает все более угрожающий характер.
Прозвучавшие на конференции признания должны были произвести ошеломляющее впечатление на западных поклонников советской утопии, видевших в гражданах коммунистических стран „подопытных кроликов” своих теоретических изысканий. Так, лауреат Нобелевской премии по экономике П.Самуэльсон после десятков миллионов погубленных коммунистическими экспериментами жизней и в 1985 году все еще никак не мог решить, стоили ли достигнутые в ходе этих экспериментов „экономические успехи” такой жертвы? Для него это все еще оставалось „наиболее сложной дилеммой человеческого общества”.
Другой экономист, никогда не живший при советской системе и поэтому, очевидно, никогда не теряющий оптимизма, гарвардский профессор Гэлбрейт всего за четыре года до конференции приходит к выводу, что советская экономика совершает „огромный материальный прогресс”, который очевиден в „устойчивом благополучии населения”.
Восьмого января 1988 года, выступая перед руководителями средств массовой информации, Горбачев об „устойчивом благополучии населения” умолчал. Но в доказательство успеха своей программы перестройки привел созданные в Советском Союзе компьютеры, выполняющие миллиард операций в секунду, что, конечно же, ни о каком отставании от мировых стандартов не свидетельствовало. А еще раньше в своей книге о перестройке он утверждал, что в ответ на отказ Запада предоставить Советскому Союзу новейшую технологию была разработана „Программа 100”. „В ней речь шла о 100 материалах. Эта программа нами выполнена меньше чем за три года. Мы уже самостоятельно обеспечиваем себя на 90% такими материалами. Так что в основном мы поставленную задачу решили”.
После речи Абалкина возникал вопрос, кому же верить? Кто лучше знает истинное положение дел в стране?
Обрисовав угрожающее состояние экономики, академик тем не менее утверждал, что „социализм... закономерный этап в развитии человечества”, из чего следовало: или созданное в СССР и есть тот закономерный социализм, или же это не социализм. Но поскольку он все-таки явление закономерное, то его еще предстоит создать, а иными словами — все надо начинать сначала. Академик подтверждал то же, что ранее сказал в своем докладе Горбачев, после перечисления всех бед поспешивший заверить делегатов в том, что в основном система правильная и отхода от социализма не будет.
Все это вносило ужасающую путаницу. Это убеждало, что принявший сахаровскую программу, „диссидент на троне”, как его назвал Зиновьев, от социалистической системы отказываться не собирался. Хотя он и говорил о демократии, но имел в виду не „буржуазную демократию”, не „либеральную демократию” американского типа, а „социалистическую демократию”, которая, как выяснялось из дальнейших разъяснений, ничего общего, кроме названия, не имела с западной. Его высказывания позволяли сделать вывод, что стремится он к некоему симбиозу демократических (в его интерпретации) и авторитарных методов, что намерен он произвести своеобразную прививку побегов демократии к командно-административной системе. Но это было противоестественным, и как лысенковские эксперименты в сталинские времена и эти горбачевские прививки демократии обречены были на неудачу. Шутники напоминали о тех, кто в прошлом пытался сидеть между двух стульев. Результат такой попытки был известен заранее.
К тому же отказ партии признать свою коллективную ответственность за кровавое прошлое и катастрофическое настоящее оставлял мало надежд на развитие демократии. Партия по-прежнему претендовала на монополию власти. Она отказывалась признать, что специально созданная и приспособленная для захвата власти, она оказалась совершенно не способной управлять. Несмотря на утверждения о том, что только партия полностью владеет марксистской „наукой” о переустройстве общества, годы ее правления убедительно свидетельствовали — править она способна только с помощью террора. Без него она как слепой без поводыря.
И тем не менее, с самого начала осуществления своей „революции сверху” Горбачев упрямо взывает к партии, на нее опирается, превозносит как единственную и даже революционную силу, способную вывести страну из тупика, партию, заведшую страну в тупик. Или он и в самом деле уверен, что тот, кто завел в тупик, знает, как из него выйти? Однако на четвертом году перестройки он сам с трибуны конференции во всеуслышание заявляет: „Экономика в тупике”.
Казалось бы, вывод ясен. Но выступивший после него тогдашний глава латвийской компартии Борис Пуго доказывает, что в стране нет другой силы, кроме партии, способной принять на себя полную ответственность за курс перестройки. И у большинства не нашлось смелости признать, что экономические реформы не удались потому, что не были проведены политические реформы, чему препятствует их партия. Большинство, несмотря на различия во мнениях, по-прежнему оставалось правоверными коммунистами, заботившимися кто в большей, кто в меньшей степени прежде всего не об интересах страны, а о сохранении власти своей партии. В их сознании интересы страны по-прежнему отождествлялись с интересами партии. Они еще не пришли к тому, что их надо разделить. А мысль о том, что интересы партии могут и вовсе не отвечать интересам народа, была от них так же далека, как и то „светлое будущее”, в которое они не так давно обещали привести страну.
Можно предположить такой вариант: решивший провести реформы, Горбачев поначалу мог действительно не знать, на кого опереться. Но ко времени проведения конференции ситуация стала иной. Сама жизнь подсказывала выход. Повсюду возникали неформальные организации, народные фронты. И тут стало очевидным, что как и в случае с гласностью, которая, по его мнению, должна была быть дозированной, генсек хотел бы, чтобы и демократизация была дозированной. По-видимому, Горбачев рассчитывал, что неформальные организации и народные фронты ограничатся оказанием содействия осуществлению перестройки и
борьбой с теми, кто противостоит ей. Короче говоря, будут служить его целям, оставаясь ручными, послушными его воле и указаниям. Но и в этом он ошибся. Хотя он всячески подчеркивал, что опирается на „ новое мышление”, его собственное мышление оставалось старым, исходил он из своего предшествующего комсомольского и партийного опыта, убеждающего его в том, что доведенное, как казалось, до полного послушания за годы советской власти население не проявит инициативы ни в чем, что не предписано сверху. Он не учел, как и все марксисты, тот самый человеческий фактор, о котором писал, но глубинной сути которого не понял. Оказалось, что даже тотальное подавление инициативы и свободного мышления полностью ни стремления к инициативе, ни свободного мышления подавить не смогло. Поэтому и возникшие неформальные организации сразу же вышли из-под контроля.
Пример подала Прибалтика, которой, по замыслу Горбачева, отводилась роль испытательного полигона. Он не имел ничего против, если прибалты, еще не утратившие полностью умения трудиться, уровень жизни которых был выше, чем в остальных республиках, получат дополнительные возможности для развития экономики, показывая тем самым пример остальным. Но местная, хорошо образованная интеллигенция, сохранявшая связи с западной культурой, приняв условия Горбачева, пошла дальше. Она выдвинула свою программу подлинной перестройки,, охватывающей не только экономику, но и политическую жизнь. Прежде чем принять участие в программе перестройки Советского Союза, прибалты пожелали выяснить, а должны ли они быть частью Советского Союза? Они поставили вопрос законности присоединения независимых государств Эстонии, Латвии и Литвы к советскому государству. Это открывало ящик Пандоры. Если демократия когда-нибудь победит в Советском Союзе, то первопроходцами на пути к ней следует назвать прибалтов.
Эстонцы первыми восстанавливают свой национальный флаг. Их примеру следуют Латвия и Литва. В феврале 88-го года возникает эстонский Народный фронт. Стремление эстонцев к независимости находит полную поддержку у националистически настроенного руководства республики: первого секретаря ЦК компартии В. Вальяса, председателя Верховного Совета А. Рюютеля и председателя Совета Министров И. То-оме. В Эстонии создается ситуация, схожая с той, что существовала в Венгрии в 1956-м и в Чехословакии в 1968 году. Это Горбачева не устраивало. Партконференция еще раз это подтвердила. Хотя генсек выдвинул проект реорганизации Верховного Совета, он не сказал ничего нового по вопросу взаимоотношений между республиками и никак не отреагировал на то, что в некоторых из них, по сути, дела, шла самая настоящая
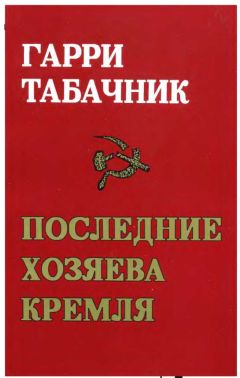



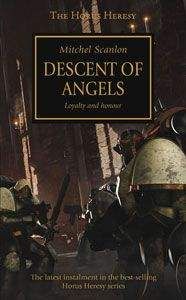
![Rick Page - Make Winning a Habit [с таблицами]](https://cdn.my-library.info/books/no-image.jpg)